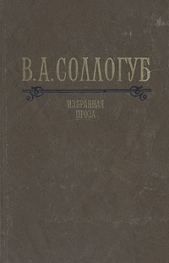Избранная проза

Избранная проза читать книгу онлайн
Людмил Стоянов — один из крупнейших современных болгарских писателей, академик, народный деятель культуры, Герой Социалистического Труда. Литературная и общественная деятельность Л. Стоянова необыкновенно многосторонняя: он известен как поэт, прозаик, драматург, публицист; в 30-е годы большую роль играла его антифашистская деятельность и пропаганда советской культуры; в наши дни Л. Стоянов — один из активнейших борцов за мир.
Повести и рассказы Л. Стоянова, включенные в настоящий сборник, принадлежат к наиболее заметным достижениям творчества писателя-реалиста.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вот священник протягивает руку с елеем, вот холодная влага обжигает ему лоб. Вдруг дыхание его стало учащенным, тяжелым, глаза неимоверно расширились, словно готовые выскочить из орбит, и, собрав последние силы, он издал странный, нечеловеческий звук, нечто среднее между лошадиным ржанием и криком павлина; в тот же миг, в порыве панического страха, он схватил сухими, окостеневшими пальцами одеяло и накрылся с головой.
И замер.
Наступило мгновенное замешательство. Женщины взвизгнули и, ошеломленные, шарахнулись назад, священник наскоро закончил:
— Ибо один ты, бог милостивый и щедрый, имеешь власть прощать грехи, и тебя прославляем, отца, и сына, и святого духа, ныне, и присно, и во веки веков.
Однообразное мяуканье прекратилось; закрыв молитвенник, поп снял епитрахиль и быстро вышел в соседнюю комнату.
Дом наполнился людьми. Все родственники — близкие и дальние — пришли проведать бедную вдову. Причмокивали языком, удивлялись, жалели несчастную Йовку: каково-то ей будет жить на эту маленькую пенсию!
Что за штука — жизнь! Только вчера его встречали, поздравляли, живого и здорового, а сейчас вот он лежит, неподвижный, в гробу.
Сестры собрали деньги на похороны. Из Габрова тоже пришла помощь. Бедная Йовка! — к ней были обращены все взоры.
Она слонялась, словно тень, или, как выражался покойный при жизни, словно «безголовая муха», входила в комнату, где стоял гроб, будто для того, чтобы убедиться, что он в самом деле умер, и с плачем возвращалась в объятия сестер.
Он лежал в смиренной позе, со скрещенными на груди руками, и, глядя на эти высохшие пальцы, на это лицо, обтянутое желтой кожей, с заострившимся носом, она никак не могла представить себе гордого, вспыльчивого и высокомерного Матея Матова, полковника, перед которым дрожали и солдаты и офицеры, человека, с которым она всю жизнь вела борьбу по самым мелким поводам. Странно, что он молчит, — так привыкла она слышать его голос, его попреки, ругань. Он лежал и молчал, словно бы все было в порядке, — и брюки выглажены, и носки постираны… Йовка то и дело входила в комнату покойного и возвращалась назад; заплаканное лицо ее выражало отчаяние, — можно было подумать, что она любила его всю жизнь, что в семье царили мир и любовь.
Пришел священник, тот же, что и причащал его, и прочел заупокойную молитву. Шагая вокруг покойника и размахивая кадилом, он бормотал нараспев какие-то непонятные слова, которых никто не слушал, и тем более сам Матей Матов. Вопрос — есть ли бог? — был теперь уже излишним и бессмысленным. Есть он или нет, от этого ему не будет ни тепло, ни холодно. Достоверно было одно: его самого уже нет, и это непоправимо.
Тетя Дора взяла все заботы на себя. Она старалась придать грусть своей улыбке, но это ей не удавалось. Все-таки Йовке без него будет хуже. Как-никак он получал пенсию, жалованье как преподаватель гимнастики, писал разные там полезные книжки, — в доме были деньги, хватало на квартиру, на пропитание и даже на одежду. А теперь? Бедная Йовка не умела ни шить, ни писать, ничего не умела делать. Старшая дочь студентка — вот и ей придется бросить ученье, поступить на службу; вообще будущее представлялось мрачным.
Может быть, сестры потому так и жалели Йовку, что понимали, как она беспомощна. Сама она еще не сознавала большого перелома, наступившего в ее жизни. Чувствовала только, что здесь остается жизнь с ее добром и злом, с раздорами и грубостями, а она переходит туда, на другой берег, где необычайно тихо, безлюдно и холодно.
Одни из дальних родственников — тетки и сваты, с которыми она виделась раз в год по обещанию, — готовили на кухне кутью. Другие хлопотали около покойника, словно их обязанностью было являться именно в такие моменты.
Брат Коста, уехавший в предвыборное турне, прислал телеграмму, что потрясен (из-за Йовки), но не сможет присутствовать на похоронах. Это было ударом для сестер, потому что именно он придавал нужный эффект всем их начинаниям. Его участие в чем бы то ни было при каждом удобном случае отмечали газеты.
Лазар Маждраганов, отец, прибыл на автомобиле в ее дом впервые за многие годы. Вошел к покойнику, сказал примирительно: «Все там будем», — и проследовал в другую комнату. Усевшись, принялся расспрашивать о случившемся. Как же так? Ведь до вчерашнего дня был здоров, подвижен, как ртуть, носился, словно самолет?
Около покойника остались две сватьи. Дремали и дежурили по очереди. Никто из его знакомых не пришел, да и едва ли их уведомили об этом событии. Сам Матей Матов лежал в гробу, потонув в цветах, чужой и безучастный ко всему. Цветы были какие-то серые, увядшие, годные разве лишь на то, чтобы их выбросили.
Обе дочери сидели наверху, в кухне. Старшая, улегшись на тахту, напряженно думала. Младшая всхлипывала, сидя за столом.
Жена долго стояла у гроба мужа. Остановив на мгновение взгляд на его восковом, испитом лице, она тут же быстро отводила его в сторону. Мысли ее были заняты тревогами этого дня, волнениями сестер, неизвестным будущим. Затем она задумалась о прошлом. Перешла в другую комнату и стала рыться в ящике стола. Что она искала?
Свадебный портрет. Хотела убедиться, действительно ли она так изменилась. О нем даже и не подумала. Портрет хранился вместе с пачкой писем, его писем с фронта. Увы! Повеяло разочарованием. Снимок выцвел, но все же — эта простенькая юбочка, короткий жакетик и немыслимая шляпа с цветами, черешнями, а на них сорока с распростертыми крыльями! Лицо маленькое, бледное, — настоящая изголодавшаяся сельская учительница! А он! Она снова впилась взглядом в красивую голову, огневые глаза и стройный стан поручика. Эх! Быть бы ей умней, не обольщаться одной только внешностью!
Принялась перебирать письма. В прежние времена Йовку раздражала их приторная слащавость, это чувство заставило ее и сейчас бросить письма обратно в ящик. Они рассыпались, и она взяла наугад одно из них.
Полковой командир, писал Матей, не любит его, потому что он, Матей Матов, не может терпеть неправду. Поэтому он всегда посылает его на опасные участки фронта. «Предчувствую, милая Йовка, — писал он, — что меня убьют. Но пусть тебе единственным утешением будет хоть то, что я погиб за царя и отечество. „Сладко умереть за родину“, — говорит латинская поговорка». Йовка вновь почувствовала гадливость. Далее он утешал ее, что она молода, что если она не была с ним счастлива, она найдет себе другого, лучшего, пусть не отчаивается.
В другом письме Матей Матов сообщал подробности боя у Демиркая и своего ранения; но рана не опасна, так что он даже не пойдет в госпиталь. «Я представлен к ордену за храбрость. Меня это не очень радует, потому что и разные проходимцы тоже представлены. И все же думаю, что он будет мне к лицу, да и ты, верю, будешь гордиться своим храбрецом».
Она увлеклась. Забавно — она ли не знала его, но сейчас он рисовался ей в новом свете, как чужой, незнакомый. И уже не был так противен. Он часто говорил, что нужно прощать близким мелкие слабости, хотя сам и не придерживался этого правила.
Йовка углубилась в чтение писем. Между прочим, он писал, что война идет к концу и ей нужно приготовиться встретить его с цветами, потому что он исполнил свой долг (когда другие отсиживались на теплых местах), был ранен и спас полковое знамя. Его произвели в майоры, но он видел себя уже подполковником, полковником, генералом! «Как мы заживем, милая Йовка, ты себе даже не представляешь. Правда, я бывал груб с тобой, но быть простым поручиком — одно, а генералом — совсем другое. Почет, уважение, деньги. Будешь жить, как царица, одеваться в самые дорогие платья. Пусть тогда приходят твой отец и брат Коста — и их облагодетельствую, если хочешь знать». Затем он сообщал, что разругался почти со всеми офицерами, что они дразнят его «диким петухом»… «Подам жалобу в верховную ставку, чтобы приняли меры против несправедливости в назначениях, чинопроизводстве, награждениях…» Ни слова не было о глухом недовольстве солдат, о том, что они разуты, раздеты, что в письмах своих ропщут на войну, на бесчинства, творимые в тылу… Это, очевидно, до него не доходило, да и жена об этом не подумала, — сначала она читала письма с улыбкой и любопытством, потом с интересом: перед ней вставало прошлое, и оно не казалось ей таким уж беспросветным… Она задремала над письмами.