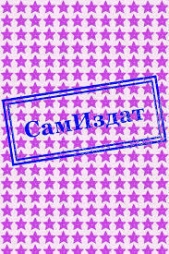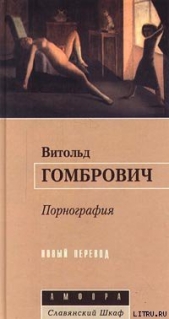Фердидурка

Фердидурка читать книгу онлайн
«Фердидурка» – чтение захватывающее, но не простое. Это и философская повесть, и гротеск, и литературное эссе, и лирическая исповедь, изрядно приправленная сарказмом и самоиронией, – единственной, пожалуй, надежной интеллектуальной защитой души в век безудержного прогресса всего и вся. Но, конечно же, «Фердидурка» – это прежде всего настоящая литература.
«Я старался показать, что последней инстанцией для человека является человек, а не какая-либо абсолютная ценность, и я пытался достичь этого самого трудного царства влюбленной в себя незрелости, где создается наша неофициальная и даже нелегальная мифология. Я подчеркнул мощь репрессивных сих, скрытых в человечестве, и поэзию насилия, поднимаемого низшим против высшего». (Витольд Гомбрович)
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– К гимназистке! – закричал он. – К гимназистке! К молодости! К Млодзякам!
Он втолкнул меня в пролетку и рысью помчал к гимназистке по шумным улицам, до краев заполненным экипажами, людьми, пением птичек.
– Едем, едем, оглядываться незачем, позади тебя нет ничего, только я с тобой.
И, сжимая мою руку, весь светясь, бормотал:
– К гимназистке, к современной гимназистке! Там-то гимназистка уж сумеет влюбить его в молодость! Там-то Млодзяки уж сумеют его умалить! Там-то уж попочку пристроят ему преотличнейшую! Цо, цо, цо! – заорал он, даже лошадь задергалась, а обращенная к Пимке спина извозчика на козлах выражала безграничное народное презрение. Пимко, однако, сидел совершенно абсолютно.
Но на пороге дешевого интеллигентского дома в районе то ли Сташица, то ли Любецкого [24] он вроде как заколебался, обмяк и – о чудо! – потерял часть своего абсолютизма.
– Юзя, – прошептал он, трясясь и вертя головой, – я ради тебя иду на огромную жертву. Только ради твоей молодости это и делаю. Только ее ради отваживаюсь на риск встречи с современной гимназисткой. Ха, гимназистка, современная гимназистка!
И поцеловал меня, будто в страхе хотел умаслить меня, а одновременно вроде как и на прощание. И затем, придя в крайнее возбуждение, принялся, постукивая палкой, декламировать и цитировать, читать наизусть, высказывать мысли, афоризмы, суждения и концепции, все отменного свойства, все классически отточенное, но вид у него был учителишки больного и опасающегося утерять собственную свою суть. Он вспоминал неведомые мне имена каких-то своих литературных друзей, и я слышал, как он тихо повторял их похвальные отзывы о нем, в свою очередь похвально отзываясь о них. Он также трижды расписался карандашом на стене – «Т. Пимко», – словно Антей, черпающий силы в собственной подписи. Я изумленно смотрел на учителя. Что это? Неужто и он страшится современной гимназистки? Или только прикидывается? С какой стати столь искусному учителишке бояться гимназистки? Но служанка уже открыла нам дверь, и мы оба вошли – профессор как-то скромно, без свойственного ему высокомерия, а я с лицом, похожим на тряпку, скомканным, бледным, обалделым и отрешенным. Пимко постучал палкой, спросил: – Господа дома? – в тот же миг распахнулись двери в глубине, и нам навстречу вышла гимназистка. Современная.
Лет шестнадцати, свитер, юбка, резиновые спортивные тапочки, спортивная, раскованная, складная, ловкая, гибкая и нахальная! При виде ее я перетрусил душой и лицом. Понял с первого же взгляда, что это – явление могучее, более, пожалуй, могучее, нежели Пимко, и столь же в своем роде абсолютное, ни в какое сравнение не идущее с Сифоном. Кого-то она мне напомнила – кого? кого? – ах, напоминала она мне Копырду! Вы помните Копырду? Она была такая же, но мощнее, родственного ему типа, но более интенсивная, совершенная в своей гимназичности гимназистка и абсолютно современная в своей современности. И вдвойне молодая – во-первых, возрастом, а во-вторых, современностью, – то была молодость молодости. Вот я и испугался, как человек, который сталкивается с явлением его превосходящим, и страх еще усилился, когда я увидел, что не она учителишку, а учителишка ее боится и совсем неуверенно кланяется современной гимназистке.
– Целую ручки, – воскликнул он якобы весело и нажимая на элегантность. – Вы, барышня, не на пляже? Не на Висле? Мамочка дома? Как там вода в бассейне, а? Холодная? Холодная лучше всего! Я сам в свое время купался в холодной!
Что это? В голосе Пимки я услышал старость, льстящую молодости спортом, старость униженную – я отступил на шаг. Гимназистка Пимке не отвечала – только смотрела на него – и, взяв в рот английский ключик, который держала в правой руке, подала ему левую с такой равнодушной бесцеремонностью, будто то был вовсе и не Пимко… Профессор смешался, не знал, что делать с этой, протянутой ему молоденькой левой, наконец схватил ее обеими руками. Я поклонился. Она вытащила ключ изо рта и проговорила деловито:
– Мамы нет, но она сейчас придет. Пожалуйста… И проводила нас в современный холл, где встала у окна, а мы расположились на диване.
– Мамочка, верно, на сессии комитета? – начал Пимко светскую беседу.
Современная сказала:
– Не знаю.
Стены были выкрашены светло-голубой краской, занавески кремовые, на полочке радиоприемник, обстановка современная, строгая, чистая, гладкая, простая, два встроенных в стену шкафа и столик. Гимназистка стояла у окна, словно в комнате никого не было, и отшелушивала кожу, которая облезала у нее с плеч – следствие загара. Нас для нее как бы и не было – на Пимку же ни малейшего внимания – и поплыли минуты. Пимко сидел, нога на ногу, сплел руки, пальцами крутил, словно гость, которым никто не занимается. Поерзал, хмыкнул раз, другой, откашлялся, желая поддержать разговор, но современная повернулась к окну передом, к нам задом и продолжала отшелушивать кожу. Так что он ни слова не произнес, только сидел – но его сидение без разговора было незавершенным, неполным. Я протер глаза. Что происходит? Ибо то, что что-то происходило, факт – но что, собственно? Властное сидение Пимки – незавершенное? Брошенный учителишка? Учителишка? Незавершенность требовала дополнения – знаете эти мучительные пустоты, когда одно кончается, а другое еще не начинается? В голове образуется пустота. Я вдруг увидел, что из учителишки лезет старость. До того я и не замечал, что профессору уже за пятьдесят, мне это как-то никогда прежде не приходило на ум, будто абсолютный учителишка был существом вечным и вневременным. Старый или профессор? Как это – старый или профессор? Почему бы ему не быть старым профессором? Нет, речь не о том, но против меня что-то замышляют (ибо то, что они были в сговоре, несомненно). Боже, отчего он сидит? Зачем он пришел сюда, неужели, чтобы сидеть подле меня с гимназисткой? Сидение его для меня было тем мучительнее, что я сидел с ним вместе. Если бы я стоял, это не было бы так страшно. Но вставание сопряжено с ужасными трудностями, точнее говоря, встать повода не было. Нет, речь не о том, но почему он сидит с гимназисткой, почему сидит по-стариковски с молодой гимназисткой? Сжальтесь! Но нет жалости. Почему он сидит с гимназисткой? Почему его старость это не обычная старость, а гимназическая? Как это – старость гимназическая? Мне вдруг сделалось страшно, но бежать не мог. Гимназическая старость – старость молодо-старая – вот какие незавершенные, неполные, омерзительные формы скакали в моей голове. И нежданно раздалось в комнате пение. Я не верил своим ушам. Учителишка пел арию гимназистке. От удивления я пришел в себя. Нет, не пел, напевал – Пимко, оскорбленный равнодушием гимназистки, промычал несколько тактов из оперетки, подчеркивая тем самым всю несуразность, дурное воспитание, бестактность молодой Млодзяк. Так, стало быть, он пел? Заставила дедушку запеть! Разве это тот грозный, абсолютный, искусный Пимко, сей дедушка, брошенный на диван, принужденно поющий для гимназистки?
Я совсем обессилел. После стольких злоключений с утра, с того момента, когда прилетел ко мне дух, мышцам моего лица не дано было ни разу расслабиться, щеки мои горели, будто после бессонной ночи, проведенной в поезде. Но сейчас поезд вроде бы останавливался. Пимко пел. Стыдно мне сделалось, что я так долго подчинялся безобидному старикашке, на которого рядовая гимназистка не обращала никакого внимания. Лицо мое понемногу начало входить в норму, я уселся поудобнее и спустя мгновенье обрел полное равновесие, а также – о радость! – утерянные тридцать лет. Я решил самым обычным образом уйти, даже без протестов, но тут профессор схватил меня за руку, он был теперь совершенно иным. Постарел, помягчел, выглядел серо и нелепо, возбуждал жалость.
– Юзя, – шепнул он мне на ухо, – не бери пример с этой современной девушки нового, послевоенного типа, эпохи спорта и джаз-бандов! Послевоенное одичание нравов! Отсутствие культуры! Отсутствие уважения к старшим! Голод желаний нового поколения! Я начинаю опасаться, что атмосфера для тебя не будет здесь хороша. Дай мне слово, что не подпадешь под влияние этой разнузданной девушки. Вы похожи, – он говорил как в жару, – есть у вас нечто общее, знаю, знаю, знаю, ты, в сущности, тоже современный мальчик, зря я привел тебя сюда к современной девушке!