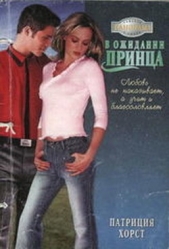Тайна семьи Фронтенак

Тайна семьи Фронтенак читать книгу онлайн
Французский писатель Франсуа Мориак — одна из самых заметных фигур в литературе XX века. Лауреат Нобелевской премии, он создал свой особый, мориаковский, тип романа. Продолжая традицию, заложенную О. де Бальзаком, Э. Золя, Мориак исследует тончайшие нюансы человеческой психологии. В центре повествования большинства его произведений — отношения внутри семьи. Жизнь постоянно испытывает героев Мориака на прочность, и мало кто из них с честью выдерживает эти испытания.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Все то, чем приходская церковь могла снабдить священника и детей из хора, двигалось перед катафалком. Ив, шедший рядом с обоими своими братьями и дядей Ксавье, глубоко ощущал, как нелепы на фоне яркого дня их изможденные лица, их одежда, его шелковая шляпа (Жозе был одет в форму морской пехоты). Ив видел лица людей на тротуаре, эти жадные взгляды женщин. Он не страдал, он ничего не чувствовал, он слышал обрывки фраз, которыми обменивались шедшие следом за ним дядя Альфред и Дюссоль. (Последнему сказали: «Вы ведь тоже член семьи! Вы будете идти сразу же за нами...»)
— Это была женщина с головой, — говорил Дюссоль. — Я не знаю более лестных слов. Я даже рискну сказать: это была деловая женщина. По крайней мере она могла бы стать ею рядом с мужем, который сумел бы ее должным образом развить.
— В делах, — заметил Коссад, — женщина может позволить себе много такого, что для нас недопустимо.
— Послушайте, Коссад, а вы припоминаете, как она повела себя во время дела Метэри? Ну с Метэри, вы же помните, это когда нотариус сбежал с казенными деньгами? Она потеряла шестьдесят тысяч франков. В полночь она пришла ко мне и стала умолять пойти вместе с ней к госпоже Метэри. Бланш заставила ее подписать признание долга... Это было совсем не глупо. Для этого нужно было иметь голову на плечах... Она на десять лет увязла в судебном процессе, но в конце концов ей было все выплачено сполна, причем самой первой из всех кредиторов. Молодец, не так ли?
— Да, но она часто повторяла нам, что, если бы речь не шла о деньгах ее детей, распорядительницей которых она являлась, у нее никогда не хватило бы смелости...
— Вполне возможно, потому что у нее временами начинались приступы излишней совестливости: это была единственная ее слабость...
Дядя Альфред ханжески возразил, что «это в ней достойно было самого глубокого восхищения». Дюссоль пожал плечами:
— Да ладно, не смешите меня! Я человек честный, когда хотят привести в пример какую-нибудь порядочную фирму, всегда вспоминают нашу... Но ведь мы-то знаем, что такое вести дела. Если бы Бланш занялась ими, да... Она любила деньги. Она бы не стала краснеть.
— Она предпочитала землю.
— Она любила землю не ради самой земли. По ее мнению, земля представляла собой деньги, точно так же, как и банковские чеки; только земля казалась ей более надежным вложением. Она уверяла меня, что в последние десять лет, не деля года на удачные и неудачные, после вычета всех расходов, ее владения приносили ей четыре с половиной, а то и пять штук.
Иву вспомнилась мать как-то вечером, на перроне, посреди сосен Буриде; он видел, как она идет к нему по окружной аллее парка, держа в руках четки; или вот, в Респиде, на фоне уснувших холмов, она рассказывает ему о Боге. Он пытался припомнить ее слова, которые свидетельствовали бы о ее любви к земле, и те в изобилии всплывали из глубин его памяти. Вот, к примеру, перед смертью, по словам Жана-Луи, она показала на июльское небо, видневшееся через открытое окно, на деревья, облюбованные стаями птиц, и произнесла: «Вот чего мне жаль...»
— Похоже, — говорил Дюссоль, — что последними ее словами, были слова сожаления, обращенные к виноградникам: «Мне жаль этого прекрасного урожая!»
— Нет, мне рассказывали, что она говорила о деревне вообще, о красоте природы...
— Это рассказывают ее сыновья, — Дюссоль понизил голос, — они поняли ее слова по-своему; вы же их знаете... Бедный Жан-Луи! Но мне кажется, это больше похоже на правду: речь шла об урожае, который ей не суждено было собрать, этом винограднике, который она полностью обновила, она оплакивала свое достояние... И никто не сможет переубедить меня. Мы были знакомы в течение сорока лет. У нас был даже такой случай: представьте себе, однажды она жаловалась мне на своих сыновей, а я сказал ей, что она похожа на курицу, которая высидела утят. Она тогда посмеялась над этим...
— Нет, Дюссоль, нет: она гордилась ими, и надо признать, с полным на то основанием.
— Я не спорю. Однако мне смешно слушать, когда Жан-Луи утверждает, что она была неравнодушна к разглагольствованиям Ива. Ведь эта женщина обладала уравновешенным характером, чувством меры. Уж мне-то не надо рассказывать эти байки. Во всех моих спорах с Жаном-Луи по поводу разделения прибылей, заводских советов и всей этой галиматьи я чувствовал, что она на моей стороне. Она волновалась из-за этих «химер» сына, как она их называла. Она умоляла меня не винить его за это. «Дайте ему время, — говорила она мне, — вы увидите, что он мальчик серьезный...»
Ив уже больше не думал ни о своем смешном одеянии, ни о лакированных туфлях; он больше не рассматривал лица людей на тротуарах. Продвигаясь в этой цепи, между катафалком и Дюссолем (каждое из улавливаемых слов которого помогало ему восстановить неприглядный смысл того, что ему расслышать не удалось), он шел, опустив голову. «Она любила бедных, — думал он, — когда мы были маленькими, она заставляла нас взбираться по грязным лестницам, она заботилась о женщинах легкого поведения, вернувшихся к добропорядочной жизни. Она не могла прочесть без слез ни одного моего стихотворения, имевшего отношение к моему детству...» А голос Дюссоля все не умолкал.
— Посредники были с ней тише воды. Она умела выправлять ведомости, не делая скидок и не платя комиссионных...
— Скажите, Дюссоль, а вы когда-нибудь видели, как она принимала арендаторов? До меня не доходит, как ей удавалось заставлять их платить регулярно...
Ив знал, ему рассказал об этом Жан-Луи, что это была неправда: арендные договора возобновлялись вопреки здравому смыслу и без учета доходов с недвижимости. Тем не менее он не мог уничтожить эту навязываемую ему Дюссолем карикатуру его матери в том образе, в каком она представлялась другим, не сопряженной с тайной семьи Фронтенак. Смерть отдает нас не только на съедение червям, но и на растерзание людям, они гложут память о человеке, они разлагают ее; даже Ив уже не узнавал образа покойной, доставшейся на растерзание Дюссолю, созданный им реальный портрет «продержался» дольше. Эту память нужно было вновь воссоздать внутри себя, стереть темные пятна, Бланш Фронтенак должна была вновь стать тем человеком, каким он знал ее при жизни. Это нужно было сделать, нужно было ему, чтобы выжить, чтобы пережить ее. Какая же она длинная, эта улица Арес, по которой вплоть до самого кладбища через квартал домов терпимости продвигается Семья в вечерних одеждах, в лакированных туфлях, с дикой, преувеличенной торжественностью, а священники, «привыкшие», как говорится, чудовищным образом привыкшие делать свое дело, бормочут величественные церковные тексты! Голос Дюссоля, перед тем еле слышный, вновь зазвучал громче, так что Ив помимо собственной воли снова начал прислушиваться.
— Нет, Коссад, здесь я с вами не согласен. Я считаю, что тут как раз эта достойная всяческого восхищения женщина дала маху. Нет, она не была хорошей воспитательницей. Заметьте, что я не лишен религиозных чувств, эти господа из церкви всегда при необходимости находят меня, они знают об этом и этим пользуются. Но если бы у меня были сыновья, я сразу, как они прошли причастие, стал бы приучать их к серьезным делам. Бланш недостаточно отдавала себе отчет в том атавизме, который довлел над ее близкими. Я говорю это вовсе не в упрек несчастному Мишелю Фронтенаку...
А поскольку Коссад стал возражать, что Мишель на протяжении всей своей жизни был антиклерикалом, Дюссоль заметил:
— Я имею в виду, что все же он был мечтателем, человеком, который, даже проворачивая сделку, всегда прятал в кармане какую-нибудь книжицу. Этого было достаточно для того, чтобы его осуждать. Если бы я сказал вам, что наткнулся в нашем рабочем кабинете на сборник стихотворений!.. Помню, когда он взял его у меня из рук, он выглядел весьма смущенным...
— Смущенным? Может быть, речь шла о каких-нибудь фривольных стишках?
— Нет, читать подобные вещи было не в его привычках. А впрочем, может быть, вы и правы... Припоминаю, что это был сборник Бодлера... «Падаль», вы когда-нибудь слышали? Мишель был человеком умным, не стану спорить, но что он представлял собой как деловой человек, я могу судить лучше, чем кто бы то ни было. Счастье для фирмы и для детей семьи Фронтенак, что я был рядом. Религиозная экзальтированность Бланш, разумеется, развила в них эти тенденции; но, между нами говоря, к чему это привело?