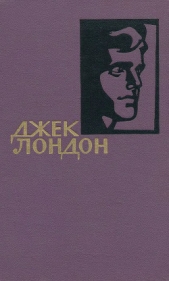Сонаты: Записки маркиза де Брадомина

Сонаты: Записки маркиза де Брадомина читать книгу онлайн
Творчество Валье-Инклана относится к числу труднейших объектов изучения. Жанровое и стилистическое разнообразие его произведений столь велико, что к ним трудно применить цельную исследовательскую программу. Может быть, поэтому Валье-Инклан не стал «баловнем» литературоведов, хотя и давал повод для множества самых противоречивых, резких, приблизительных, интуитивистских и невнятных суждений.
Для прогрессивной испанской литературы и общественности имя Валье-Инклана было и остается символом неустанных исканий и смелых творческих находок, образцом суровой непримиримости ко всему трафаретному, вялому, пошлому и несправедливому.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я только что вернулся в каюту; лежа на койке, я раскуривал трубку и, должно быть, думал о Нинье Чоле. Вдруг открывается дверь и глазам моим предстает Юлий Цезарь — молодой мулат, которого мне подарил на Ямайке один португальский авентуреро, впоследствии ставший генералом Доминиканской республики. Юлий Цезарь останавливается в дверях под ламбрекеном:
— Господин! Тут один чернокожий прибыл. Охотится на акул с ножом. Идите, господин, скорее!
Он мгновенно исчезает, как те тюремщики-эфиопы, которые охраняют принцесс в заколдованном замке. Разбираемый любопытством, я иду за ним вслед. И вот я на палубе, освещенной сиянием полной луны. Огромного роста негр; с одежды его струится вода; окруженный пассажирами, он отряхивается, как горилла, и улыбается, показывая ряды белоснежных зубов. В нескольких шагах от него, перегнувшись через правый борт, два матроса тянут раненую акулу. Она бьется над водой у самого борта, но неожиданно снасть обрывается, и акула исчезает в облаке пены.
— Трусы! — бормочет негр, презрительно поджав свои толстые губы.
И он уходит, оставив на палубе следы мокрых босых ног.
— Эй, негр! — зовет его издалека чей-то женский голос.
— Иду, иду! Сию минуту!
На фоне черной двери кают-компании появляется белая женская фигура. Сомнений нет, это она!
Но как я не догадался? Что же ты молчало, сердце, и ничего мне не подсказало? Ах, с каким удовольствием я бы швырнул тебя в наказание ей под ноги, под ее прелестные ножки! Негр возвращается:
— Нинье Чоле что-нибудь угодно?
— Хочу посмотреть, как ты убьешь акулу.
Негр улыбается белозубой улыбкою дикаря и говорит, скандируя слова и не отрывая глаз от волн, посеребренных луной:
— Это невозможно, госпожа. Поймите, они теперь ходят стаями.
— Трусишь?
— А то что же! Ничего нет удивительного… Пусть ваша милость взглянет…
Нинья Чоле не дает ему договорить:
— Сколько тебе предлагают эти сеньоры?
— Двадцать тостонов. Две сотни.
В эту минуту по палубе проходит боцман, отдававший какие-то распоряжения. Он слышит эти слова. И, не обернувшись, не вынув даже изо рта дудку, со всей грубою прямотою морского волка кричит:
— Четыре золотых, и не будь дураком!
Негр, казалось, раздумывал. Он перевесился через борт и несколько мгновений глядел на море, в котором трепетали потускневшие звезды. По поверхности скользили причудливые серебристые рыбы; они оставляли после себя светящуюся полосу и исчезали, словно растворившись в сиянии луны. В той стороне, где на волны ложилась тень от фрегата, темным пятном шевелилась стая акул. Матрос отошел от борта; он все думал. Но он еще раза два возвращался и все глядел на сонные воды, казалось тронутый их жалобным стоном, обращенным к ночной тишине. Он обрезал ногтем сигару и подошел к нам ближе:
— Четыре сотни. Как вы на это смотрите, госпожа?
Нинья Чоле с тем патрицианским презрением, какое богатые креолки испытывают к неграм, величественно обернулась к нему и, гордо обратив на него свой лик индейской царицы, медленно и тягуче, так что слова, казалось, застывали от скуки в уголках рта, прошептала:
— Кончишь ты наконец?
Пухлые губы негра расплылись в улыбку — улыбку каннибала, чувственную и жадную. Потом он сбросил блузу, вытащил из-за пояса нож и, как ньюфаундлендская собака, взяв его в зубы, вспрыгнул на борт.
На его обнаженном торсе, словно выточенном из черного дерева и отполированном, еще блестели капли морской воды. Негр склонился над морем, словно измеряя бездну глазами. Едва только акулы показались на поверхности, он, стоя на борту, освещенном луною, весь черный, как некое древнее божество, выпрямился вдруг во весь рост, выставил руки вперед и, бросившись головой вниз, исчез в пучине. И экипаж корабля и пассажиры — все, кто только в эту минуту находился на палубе, кинулись к борту. Акулы нырнули и погнались за негром. Взгляды всех были прикованы к бурлящей воде, которая так и не успела успокоиться, ибо, почти в то же мгновение, на поверхности появились клочки кровавой пены и под радостные крики матросов и громкие хлопки темных и грубых рук купцов из-под воды показалась курчавая голова негра; он плыл, выгребая одной рукой, а другой волоча за собой акулу, в горло которой был всажен нож. Матросы заторопились поднять негра на борт и бросили ему приготовленные для этого концы. Но, когда он уже высунулся по пояс из воды, раздался вдруг душераздирающий крик, и, на глазах у всех, несчастный вскинул руки и тут же исчез — акулы растерзали его на куски. Я все еще не мог прийти в себя, как вдруг услышал позади голос:
— Вы позволите мне пройти, сеньор?
В то же мгновение кто-то мягко коснулся моего плеча. Это была Нинья Чоле. На губах ее играла все та же обольстительная улыбка; она быстро сжимала и разжимала руку, в которой блестело несколько золотых монет. Когда я пропустил ее, она с таинственным видом склонилась над бортом и бросила монеты далеко в море. Вслед за тем она изящным движением повернулась ко мне:
— Теперь ему будет чем заплатить Харону.
Должно быть, я был бледен как смерть, но, когда она посмотрела на меня своими чудесными глазами и улыбнулась, восторг мой победил остальные чувства, и мои все еще дрожавшие губы ответили на эту улыбку древней царицы улыбкой раба, который слепо одобряет все поступки своей госпожи, Жестокость креолки ужасала меня и вместе с тем притягивала. Никогда еще она не казалась мне такой соблазнительной и красивой. Из морских глубин, темных и загадочных, доносились какие-то звуки, струились запахи. Бледная луна придавала всему ни с чем не сравнимую тревожную прелесть. Трагическая гибель колосса негра, немой испуг, который застыл на всех лицах, жалобные звуки скрипок в кают-компании — все стало для меня в эту ночь, под этой луной, источником наслаждения, утонченного и изощренного.
Нинья Чоле ушла своей мерно колыхающейся походкой, напоминающей поступь тигрицы, и, когда она исчезла, мучительное сомнение охватило вдруг мою душу. До этого времени я не заметил, что рядом со мною стоял красивый белокурый юноша. Я вспомнил, что видел его, когда высаживался на берег в Сан-Хуан-де-Тукстлане. Не ему ли предназначалась улыбка этих уст, которые, казалось, скрывали загадку какого-то древнего культа, дьявольски бесстыдного и жестокого?
С первыми лучами зари я высадился в Веракрусе. Я боялся этой улыбки Лили, улыбки, которая явилась мне теперь снова на устах другой женщины. Я боялся этих губ, губ Лили, свежих, ярких, ароматных, как спелые вишни из нашего сада, которыми она так ласково угощала меня — прямо с губ. Если бедное сердце щедро, если оно не раз и не два давало приют любви, вкушало ее редкие радости и переносило ее бесчисленные печали, оно не может не задрожать от взгляда и от улыбки, когда их расточают глаза и губы, такие, как у Ниньи Чоле. Глядя на них тогда, я дрожал; я, верно, дрожал бы и теперь, когда снега стольких зим легли мне на голову, чтобы больше уже не растаять!
Мне и прежде случалось испытывать этот страх перед любовью. Но в тот момент, когда бывало нужно порвать, у меня каждый раз не хватало решимости — в эти минуты я походил на романтически настроенную девицу. Малодушие, на которое я обрек себя всей моей изнеженной жизнью и которое всю жизнь причиняет мне огорчения! Теперь я из собственного опыта знаю, что только великий святой и великий грешник находят в себе мужество устоять перед искушением любви. Я со всем смирением сознаюсь, что в самом деле надо быть тем или другим, чтобы, услыхав шелест ее крыльев, не дать ей приюта у себя на груди. Может быть, именно потому судьба так упорно испытывала мою стойкость!
Подойдя к берегу в шлюпке, мы увидели, что к причалу только что приблизилась другая шлюпка, украшенная пестрыми флагами и вымпелами, и глаза мои угадали Нинью Чоле в белой, укрытой покрывалом фигуре женщины, которая соскочила с кормы. Мне, должно быть, на роду было написано испытать соблазн и быть побежденным. Есть на свете мученики, с которых дьявол забавы ради срывает венец, и, на мое несчастье, я всю жизнь был одним из них. Я прошел по земле как святой, упавший с алтаря и разбивший голову. Счастье еще, что иногда белым рукам праведниц случалось перевязывать раны моего сердца. Теперь, когда я гляжу на рубцы от этих ран и вспоминаю, как я бывал побежден, сама мысль об этом меня почти утешает. Из одной книги по истории Испании, которую я читал еще мальчиком, я узнал, что победить или погибнуть славною смертью — одно и то же.