Поздняя проза
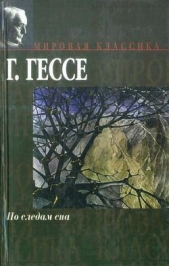
Поздняя проза читать книгу онлайн
По следам сна — нечто, даже в сложном, многообразном творчестве Германа Гессе, стоящее несколько особняком. Философская ли это проза — или просто философия, облеченная в художественную форму? Собрание ли странноватых притч — или автобиография, немыслимо причудливо выстроенная?
Решайте это сами — как, впрочем, и то, к каким литературным видам и подвидам отнести реально произведения, условно называемые поздней прозой Германа Гессе …
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но с этим найденным сокровищем все вышло у меня довольно странно. Находка очень меня обрадовала, но текст письма оказался совсем не таким, как я ожидал и, думалось, знал. И вместо того чтобы прояснить мои воспоминания и сделать их определеннее, письмо, наоборот, совершенно спутало их и сделало совсем сомнительными. Оно показало мне, что хотя мое представление о Мартине в целом верно, но его воспоминания о совместно пережитом отличались от моих и отчасти даже противоречили им. Его память была, казалось, лучше моей, во всяком случае, она сохраняла многое, чего я не помнил, опуская зато, правда, такое, что я особенно выделял и берег.
Странно и чуть ли не поразительно было для меня уже то, что почерк этого найденного письма не имел ничего общего с тем почерком мальчика Мартина, которым я так восхищался. Это был ясный и довольно красивый, но никак не каллиграфический и вовсе не стремящийся к той прежней аккуратности почерк. Письмо занимало несколько страниц, это было поздравительное послание, в известной мере юбилейный адрес к моему пятидесятилетию, что-то вроде знака признания, застенчивого свидетельства дружбы. Главный раздел состоял из констатации вроде той, что я «ныне уже общепризнанная знаменитость», эта часть письма была несколько мещанской и назидательной, но куда большая часть послания была хвалой нашей молодости и годам учения, прерывавшейся краткими вздохами скромности вроде «Ты, правда, едва помнишь меня». Главным же, драгоценным, было для меня то, что старый однокашник по семинарии как бы подарил мне на день рождения свои воспоминания юных лет обо мне. Я жадно читал эти страницы. Но большинства событий, о которых он там упоминал, в моей памяти не было. Например, он рассказывал об одном вечере моей последней тюбингенской поры, в который он, приглашенный мною, сидел вместе с другими прежними однокашниками у меня в комнате и слушал, как я читал книгу «В час пополуночи». Наверняка он прав, но у меня об этом тюбингенском вечере не осталось ни тени воспоминания. А потом он переходит к нашей встрече в Базеле и совместной поездке в Гайенхофен. Этот рассказ я прочел с величайшим интересом. И об этой встрече Мартин помнит гораздо больше, чем я, я начинаю действительно стыдиться своей забывчивости. Только до момента прибытия подтверждает его рассказ мои собственные воспоминания, а потом он продолжает: «На другой день мы обошли всю артистическую колонию там на озере — Э. фон Бодмана, В. фон Шольца, — заглянули и к одному живописцу. И все это тогда не пошло мне впрок. Я пребывал тогда в тяжелом внутреннем кризисе… Я вернулся домой в состоянии довольно жалком и несчастном. Я увидел, чего мне не хватало».
Как же это так? Целый день, стало быть, я обходил со своим гостем тамошних друзей и знакомых и начисто об этом забыл. Я готов доверять его памяти больше, чем своей, ему ведь все это, привычное для меня, было внове, а к Э. фон Бодману я тогда действительно несколько раз захаживал, но не к В. фон Шольцу, так что, сдается, друг Мартин задним числом сделал этот забытый мною день на Боденском озере богаче впечатлениями и знакомствами, чем он мог быть. А о том, что было для меня главным, незабываемым событием той встречи, о своем тяжелом заболевании, он вообще ничего не помнил! Оно выскользнуло у него из памяти, как у меня это турне по соседям у озера! Так же как в своем добросовестном повествовании об этой поездке он присочинил по меньшей мере посещение Шольца, он совершенно забыл или сохранил в памяти только как душевную неурядицу свое заболевание, произведшее на меня такое впечатление, на десятки лет запечатлевшее во мне его искаженное лицо и его несчастную шатающуюся фигуру! Ах, я чуть ли не предпочел бы, чтобы это милое, длинное письмо Мартина затерялось, чем мне сталкиваться с такими противоречиями и сомнениями!
Все же я должен стоять на том, что говорит мне моя память, и защищал бы это от всех кажущихся опровержений. Но как своеобразно посрамляет, как смущает нас каждая встреча с нашей скрытой жизнью, с теми силами, которые потешаются над нашим разумом, нашим сознанием, нашей памятью, по-диктаторски распоряжаясь нашей способностью помнить и забывать! На какие бы лады я ни сопоставлял друг с другом обе картины, оставшиеся в памяти от нашей встречи, обе они донельзя ясно и с какой-то насмешкой показывают мне, как отличаемся мы от самих себя и от того, какими видят нас наши ближние. Вот я провел день или два с милым, случайно встретившимся снова товарищем юности, и как же мы оба, не желая того и не подозревая о том, разыгрывали друг перед другом спектакль, как же мы лгали себе и друг другу! Для меня Мартин был свежим, цветущим, краснощеким мальчуганом с нормальной, может быть, несколько бюргерской температурой души, и, может быть, именно это соблазнило меня представить ему свое житье и свое тогдашнее настроение весьма интересными, веселыми и завидными, тогда как на самом деле меня очень угнетали проблемы моего писательства, моего недавнего брака и моего намеренно небюргерского быта. А он в свою очередь позволил поразить себя и ослепить, он задним числом даже разукрасил приключение своей поездки к Гессе всяческими добавками, он так же успешно утаил от меня свои тяжелые проблемы, заботы и неуверенность, как я от него свои, и умудрился затем начисто забыть выплеск этих горестей в приступе с виду тяжелого физического недуга. Столь несходно повлияли на нашу память по части поездки в Гайенхофен и привели к двум столь отличным друг от друга рассказам о ней одни и те же у него и у меня причины и силы, это были конфликты в его душе и в моей и потребность не слишком отчетливо видеть эти конфликты самому и тем более не дать их увидеть товарищу. Как я превратился в памяти Мартина в счастливого феака и бедового парня, так он превратился в моей в милого, бесхитростного человека, склонного, к сожалению, к тяжелым желудочным расстройствам.
Но, несмотря на эти глубокие и, в сущности, страшные закавыки, фактом остается то, что мы оба отнюдь не забыли друг друга и что как раз та единственная в нашей жизни серьезная встреча занимала и волновала и его, и меня еще десятки лет спустя. Причина этого интереса, этой неспособности забыть была у нас обоих одна и та же, у него она выразилась, проявилась во внезапной болезни и в стремлении замять, скрыть эту болезнь задним числом, у меня — в нарочито возбужденной и возбуждающей живости и предприимчивости и стремлении вытеснить их задним числом из сознания. Как ни различны внешние наши рассказы об этом, испытывали мы тогда совершенно одно и то же: удрученность неразрешимыми с виду, гнетущими вопросами нашей нравственной жизни и одновременно желание утаить и не замечать эту внутреннюю неурядицу. Если бы каждый из нас не чувствовал у другого за маской наших ролей такого же напряжения, такой же незащищенности, такой же духоты, мы оба способны были бы забыть всю эту историю или, во всяком случае, не придавать ей важности.
Я подошел к концу своего трудного рассказа об одном незначительном с виду эпизоде времен нашей молодости. Тут можно было бы поставить точку. Но надо добавить еще одну деталь, правда, опять такую, когда я должен положиться просто на свою память и не могу ни доказательствами, ни документами помочь недоверию к этой памяти, приобретенному в ходе всего вышеизложенного разбора, помочь нечистой совести, которая должна бы, собственно, мучить всякого автора истории или повествования.
Добавить я должен тот факт, что ведь Мартин написал мне и еще одно, последнее письмо.
С тех пор как он написал, а я прочел его, прошло лет пятнадцать, и, хотя я, несомненно, его сохранил, найти его не удалось, оно должно было бы лежать с тем другим письмом и с извещением о смерти, а их-то было довольно трудно найти.
В этом последнем своем письме ко мне Мартин снова с большой теплотой и проникновенностью вспоминает детство в Кальве, уверенный, что и мне это напоминание придется по душе, в чем он и не ошибся. Но на сей раз он должен сообщить мне нечто особенное и конкретное: он недавно побывал в Кальве! Он совершил мемориально-ностальгическое паломничество в долину и город самой, как ему кажется, счастливой своей поры, справил давно вожделенный, часто намечавшийся, но наконец созревший праздник свидания. Как Кнульп перед кончиной еще раз посещает свой городок и обходит все его переулки и закоулки, так и Мартин совершил путешествие на свою как бы родину и в свое детство, он с бьющимся сердцем въехал в долину Нагольды и увидел старый город, раскинувшийся по склону между лесистыми горами и рекой. То была славная, счастливая затея, он рассказывает мне об этом с благодарностью и блаженством. Улицы, рыночная площадь, школа, фамилии наших бывших учителей и многих товарищей упоминаются с почтением, хвалой и любовью. Описывается также, как паломник находит улицу с домом своего дяди неизменившейся, лишь несколько постаревшей, как он входит в дом, принюхивается к передней и к лестничной клетке, как затем выходит во дворик, где играл в детстве, и с изумлением и растроганностью застает все совершенно таким же, как почти полвека назад. Стояли на месте, чего он никак уж не ожидал, и оба деревянных столба турника, и в одном из этих столбов сидел, десятки лет храня его детскую тайну, гвоздь, который он когда-то туда вогнал.

























