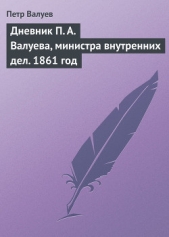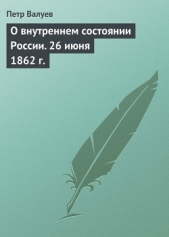Черный бор: Повести, статьи

Черный бор: Повести, статьи читать книгу онлайн
Петр Александрович Валуев (1815–1890), известный государственный деятель середины XIX в., стал писателем уже в последние годы жизни. Первая его повесть — «У Покрова в Лёвшине» сразу привлекла внимание читателей. Наиболее известен роман «Лорин», который восторженно оценил И.А Гончаров, а критик К. Станюкович охарактеризовал как «любопытную исповедь» с ярко выраженной общественно-политической позицией «маститого автора».
«У Покрова в Лёвшине» и «Черный Бор» — лучшее из всего написанного Валуевым. В них присутствует простодушный и истинно русский лиризм. Сочно и живописно описана жизнь провинциальной Москвы и картины усадебной жизни, осложненные мистическими мотивами.
Как религиозный мыслитель П.А Валуев представлен статьями «Религиозные смуты и гонения от V до XVII в.» и «Религия и наука», в которых автор обратился к проблемам богословия и истории церкви.
Произведения графа Валуева впервые приходят к современному читателю.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Папа́, — сказала Вера, которая уже несколько раз безуспешно пыталась упросить Алексея Петровича не продолжать своего рассказа, — сделайте милость, не говорите теперь обо всем этом. Вам нужно отдохнуть. Вас взволновал разговор с Поликарпом Борисовичем. Вас волнует и воспоминание о нем.
— Да, Вера, — сказал Алексей Петрович, — оно точно меня волнует; но мне все-таки хотелось высказаться. Я твоему совету последую. Отдохнуть нужно. Потрудись натянуть мне одеяло на правое плечо. Мне как будто холодно стало.
На следующий день доктор Печорин, выходя из спальни Снегина после утреннего посещения казался озабоченным. Он неохотно отвечал на расспросы Веры и сказал, что возвратится среди дня.
Доктор Печорин имел основание быть озабоченным. Состояние больного еще более ухудшилось к вечеру, и в ночь несомненно обнаружились зловещие признаки нового припадка горячки. Для борьбы с ним уже не было сил в запасе, и болезнь быстро достигла рокового исхода. Алексей Петрович угас, но угас тихо, как потухает догоревшая свеча, за истощением пищи для пламени. Пламя гаснет, вспыхивает на несколько мгновений, вновь гаснет, вновь вспыхивает, но проблески света становятся все слабее и реже. Настает минута, когда ожидание нового проблеска стало тщетным. Свеча безвозвратно потухла. Так потухает и живой светильник. Исчезает во взгляде жизненная искра — и тогда, по выражению Пушкина, забелены окна дома, в котором жила душа, отлетевшая от земли.
Алексей Петрович до конца сохранил сознание. Он благословил дочь, и к ней были обращены последние им произнесенные слова.
— Вера! — сказал он уже прерывавшимся голосом, — помни свое обещание, Бог поможет… Июль… Июль… На слове «июль» остановилось дыхание. Его слышали, кроме Веры, доктор Печорин, духовник Снегина и его дочери, священник Антоний и Варвара Матвеевна; но никто, кроме Веры, не понял значения этого слова.
Варвара Матвеевна была, по-видимому, глубоко опечалена. Она проливала много слез, всех удостоверяла в тех чувствах сердечной привязанности, которые она питала к покойному Алексею Петровичу, и всем твердила, что, лишившись его, она себя чувствует и сознает совершенно осиротевшей. Она в особенности заботилась о том, чтобы при обычных посмертных обрядах ничего не было упущено, чем можно было почтить память усопшего. Уже накануне выноса домовую панихиду служили соборне три священника: протоиерей Глаголев, приходский священник Покровской церкви и духовник покойного Снегина, священник одной из Староконюшенных церквей отец Антоний, который присутствовал при его кончине. Участие каждого из них в этом печальном обряде имело свой отличительный оттенок. На сосредоточенном и мрачном лице отца Поликарпа можно было вычитать, что он помнил покойника и был неравнодушен к совершавшемуся обряду. Но в то же время было видно, что он сознавал свое первенство между лицами, совершавшими обряд, и думал, что на него обращено внимание всех собравшихся к панихиде прежних сослуживцев и знакомых покойного Снегина. Покровский священник, недавно поступивший в приход, исполнял свою долю обряда спокойно и чинно, по временам окидывая присутствовавших равнодушным взглядом. Для него панихида, очевидно, была только заурядным эпизодом его священнослужительского обихода, а покойный Снегин — только алгебраическим знаком, предопределившим свойство совершавшегося обряда. Отец Антоний не сводил глаз с Веры, кроме тех редких мгновений, когда по чину панихиды ему самому приходилось произносить несколько слов, и в эти мгновения слышался в его голосе звук того же теплого участия, которое выражалось в его взгляде. Бедная Вера, подавленная и обессиленная горем, стояла у стены, позади Варвары Матвеевны, и хотя прислонилась к стене, качалась по временам то вперед, то назад, так что казалось, что она могла упасть. Она покачнулась однажды так сильно, что ее подхватил под руку стоявший за ней доктор Печорин. По окончании панихиды, когда почти все посторонние удалились, отец Поликарп подошел к Вере, что-то сказал ей и ее благословил. Вера ничего не ответила, не сделала никакого движения и даже не приподняла наклоненной вперед головы, так что взгляд отца Поликарпа не мог встретить ее взгляда. Несколько позже к ней подошел отец Антоний, Вера протянула руку под его благословение и потом пожала его руку.
— Вера Алексеевна, вы ничего не ответили отцу благочинному, — тихо сказал отец Антоний.
Глаза Веры блеснули сквозь наполнявшие их слезы. Она взглянула прямо в глаза отцу Антонию и медленно проговорила:
— Он убил моего отца…
Карл Иванович Крафт сидел у окна в комнате Веры и в раздумье смотрел в окно. Он смотрел как будто что-нибудь видел или ожидал увидеть, хотя в эту минуту никто не проезжал и не проходил по улице и из окна ничего не виделось, кроме бокового флигеля противолежащего дома, а над ним застланного легкими весенними облаками неба. Вера сидела по другую сторону окна, прислонясь головой к стене, и смотрела на Карла Ивановича, ожидая от него, судя по выражению ее лица, возобновления прерванного между ними разговора. Крафт долго молчал и продолжал смотреть в окно. Наконец он встал, начал ходить по комнате, раза два останавливался, снова принимался ходить, потом опять занял прежнее место у окна и сказал:
— Вера Алексеевна, я все-таки остаюсь при мнении, что ни на что окончательно вам пока решаться нельзя. Вы целые полгода вытерпели. Остается месяца два с небольшим. Мы в мае; Леонин должен быть в июле. Еще в последнем письме Анатолий Васильевич мне это повторяет. Последнее желание вашего доброго отца у меня постоянно в памяти. Тяжело было бы и вам его не исполнить… Два месяца скоро пройдут…
— Вы знаете, Карл Иванович, — сказала Вера, — что я также помню желание папа́. Если бы я его не помнила, то, конечно, не могла бы вынести той ужасной жизни, которой я жила эти полгода. Теперь она становится со дня на день все более и более невыносимой. Я вам говорила, что вначале, пока была еще свежа память о моей утрате, пока остерегались, так сказать, наступать на мое горе, я могла терпеть, подчиняться, молчать, ждать, считать часы в каждом дне и дни за днями. Но потом, и особенно в последнее время, всякая бережливость ко мне стала лишней, даже, быть может, признана противной цели Варвары Матвеевны. Повторяю вам, я чувствую, что долее мне так жить нельзя. Чувствую, что какая-нибудь беда близится и неминуемо наступит.
— Какую же новую беду могла бы накликать ваша тетушка? Мне кажется, что все злое, что она могла сделать, уже сделано или только продолжается. Принудить вас выйти за Глаголева невозможно.
— Да, но она прямо ведет к тому, чтобы я решилась на одно из двух — или согласиться, или с ней самой расстаться. Она рассчитывает на то, что из опасения толков или просто по моей беспомощности и бедности я кончу тем, что покорюсь. Вы себе представить не можете, Карл Иванович, до чего теперь доходят все притеснения, все уничижение, могу сказать, обиды, которые я претерпеваю! На меня при всяком удобном случае сыплются упреки в неблагодарности, в том, что я не помню всего, что тетушка сделала для папа́ и для меня, и что я будто бы за то отплачиваю только тем, что отравляю ее жизнь моим упорством или моими капризами. Мои отношения к вам и к Клотильде Петровне также мне ставятся беспрерывно в вину. Я будто от своих отвернулась, к чужим пристала и клевещу на тетку и на ее друзей. Каждый раз, когда я бываю у вас, мне приходится выдержать две сцены: одну за то, что иду к вам, другую за то, что была у вас. Здесь я теперь не вижу ни одного доброго или радушного лица, кроме бедной Параши, которая вместе со мною терпит, и терпит для меня, потому что ей жаль меня оставить в доме совершенно одной и беспомощной. Но и ее могут прогнать со дня на день. Вы знаете, что старый Семен отпущен вскоре после смерти папа́. На его место поступил человек, который до того груб со мною, что я ни с какой просьбой к нему не обращаюсь. Повар также новый. Другая горничная меня никогда не жаловала и совершенно под руку Варваре Матвеевне. Одним словом, я беспрерывно чувствую, что я угнетена и беззащитна. Но хуже всего то, что мне более и более упорно навязывают присутствие Бориса Поликарповича или его отца. При отце меня всякий раз обдает холодом, а сын внушает мне невыразимое отвращение. Мне кажется, что я в нем насквозь вижу его душу и что эта душа оправдывает мое отвращение. Чтобы избегать их, или несносной Флоровой, или хотя некоторых сцен с Варварой Матвеевной, мне приходится жить арестанткой в моей комнате; но и в ней я ни от Варвары Матвеевны, ни даже от Флоровой не ограждена.