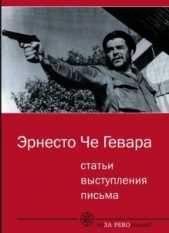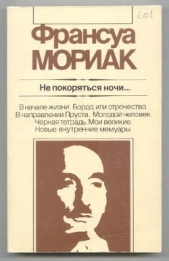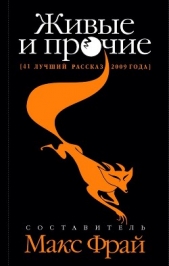8том. Литературно-критические статьи, публицистика, речи, письма

8том. Литературно-критические статьи, публицистика, речи, письма читать книгу онлайн
В восьмой том собрания сочинений вошли критические статьи на писанные в годы работы ведущим литературным критиком парижской газеты «Время» («Le Temps»), где он вел собственную рубрику Литературная жизнь (Critique litt?raire), эссе из сборника Латинский гений (Le G?nie latin, 1913), публицистика, речи, письма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Я четко делю теперь для себя весь мир и самого себя на две части: с одной стороны, все внешнее, то, что, на мой взгляд, должно быть разнообразным, многоцветным, гармоничным, безмерным, — здесь я приемлю лишь наслаждение, которое доставляет мне созерцание; с другой стороны — все внутреннее, — этот мир я концентрирую, дабы сделать его возможно более плотным, и пропускаю целые потоки чистых лучей разума сквозь отверзтое окно интеллекта…»
Однако подобная манера писать была чужда его натуре. Он скоро начал тяготиться этим стилем и стал писать более ясно, сурово, даже грубовато. В минуты нежности, а они выпадали не так уж часто, он говорит со своей возлюбленной, как с каким-нибудь добрым псом. Он пишет: «Твои славные глаза, твой славный нос…» Та, кто была его музой, наверно, думала внушить ему более нежные интонации.
В качестве яркого примера такого малоизящного стиля привожу послание от 14 декабря.
«Вчера, — пишет Флобер, — мне сделали небольшую операцию на щеке, из-за моего нарыва; лицо у меня все забинтовано и выглядит довольно потешно; как будто недостаточно с нас всей той гнили и заразы, которые предшествуют нашему появлению на свет и вновь овладевают нами после смерти, — мы и в течение самой жизни представляем собой не что иное, как вместилище сменяющих друг друга процессов гниения и разложения. Сегодня теряешь зуб, завтра волос; раскрывается рана, образуется нарыв, вам наклеивают пластыри, выпускают гной. Прибавьте к этому мозоли на ногах, естественные дурные запахи, разного рода выделения — все эго, вместе взятое, создает не слишком привлекательный образ человеческой особи. И подумать, что все это способно вызвать любовь! И что любят даже самого себя, а я, например, дошел до такой степени самодовольства, что гляжу на себя в зеркало, не прыская со смеха. Разве один только вид изношенной пары сапог уже не заключает в себе что-то глубоко грустное и не вызывает горького раздумья? Стоит только подумать, как много ты прошагал в них, направляясь не вспомнишь уже и куда, — сколько помял трав, сколько набрал грязи, — и зияющая в их коже дыра словно говорит: „Что ж, глупец! Иди покупай новые, лакированные, блестящие, поскрипывающие, — и с ними будет то же, что с нами, что и с тобой в свое время, когда ты успеешь загрязнить и пропитать своим потом изрядное количество башмаков“».
Во всяком случае, в пошлых любезностях его обвинить нельзя. В другом месте он признается, что сердце у него толстокожее; и в самом деле он плохо разбирался в некоторых тонкостях. Зато в нем проглядывает иной раз удивительная наивность. Так он уверяет г-жу X***, что душа у него чуть ли не девственная. Нечего сказать, подходящее признание, когда дело идет о том, чтобы растрогать сердце синего чулка! Впрочем, в нем нет ни малейшего самолюбия; и он откровенно признается, что в любви не умеет хитрить. Что в нем хорошо — это откровенность. От него требуют обещания вечной любви. А он ничего не обещает. В этом снова сказывается его глубочайшая честность.
Все дело в том, что он знал одну лишь страсть — к литературе. На его памятнике, если только удастся воздвигнуть ему памятник, можно будет начертать стих Огюста Барбье, с которым он обращается к Микеланджело:
Ты в жизни знал одну лишь страсть — свое искусство.
Когда ему было девять лет, он писал (4 февраля 1831 г.) своему маленькому другу Эрнесту Шевалье:
«Я напишу следующие задуманные мной романы: „Прекрасная Андалузка“, „Маскарад“, „Карденио“, „Доротея“, „Мавританка“, „Наглость любопытного“, „Предусмотрительный супруг“».
Еще тогда, ребенком, он открыл свое призвание. Всю жизнь он ни на час не сходил с пути, на который был призван. Он работал как вол. Флобер навсегда останется образцом терпения, мужества, строгости к самому себе и честности. Это добросовестнейший из писателей. Его переписка свидетельствует о том, как тщательно он работал, как непрерывно искал. В 1847 году он пишет:
«Чем дальше, тем больше я обнаруживаю, что мне трудно писать о самых простых вещах, и все яснее вижу, как ничтожно то, что я считал удавшимся. К счастью, в той же мере растет во мне и восхищение перед великими мастерами — сравнение себя с ними не только не повергает меня в отчаяние, а, напротив, усиливает во мне неукротимое стремление писать».
Преклонения и величайшего уважения достоин этот глубоко честный человек, который с помощью упорного труда и ревностного служения прекрасному сумел освободить свой ум от свойственных ему бессистемности и малоподвижности и медленно, в поте лица своего создавал свои великолепные творения, изо дня в день принося жизнь свою в жертву литературе.
ГИ ДЕ МОПАССАН — КРИТИК И РОМАНИСТ [91] [92]
Господин Ги де Мопассан только что выпустил под одной обложкой рассуждения об эстетике на тридцати страницах [93] и новый роман. Никто не удивится, если я скажу, что роман обладает большими достоинствами. А эстетика его именно такова, какой и следовало ожидать от трезвого и решительного ума, по природе своей склонного смотреть на явления духовной жизни проще, чем следует. Мы находим там наряду с удачными мыслями и наилучшими побуждениями простодушную склонность принимать относительное за абсолютное. Г-н де Мопассан строит теорию романа, как львы строили бы теорию отваги, если бы умели говорить. Теория его, если я верно ее понял, сводится к следующему: существует немало способов писать хорошие романы и только один способ оценивать их. Тот, кто творит, — человек свободный, тот, кто судит, — раб. Г-н де Мопассан, по-видимому, одинаково убежден в правоте этих двух мыслей. По его мнению, нет никаких правил для создания оригинального произведения, но много правил для оценки такового, и правила эти постоянны и обязательны. «Критик, — говорит он, — может судить о результатах, лишь исходя из природы замысла». Внимание критика «должно привлекать то, что не похоже на уже написанные романы». У него не должно быть никаких «предвзятых мнений»; он не должен заботиться «о направлениях», и вместе с тем он должен «понимать, различать, объяснять любые, самые разнородные направления, самые противоположные творческие темпераменты». Он должен… Чего только он не должен! Это самый настоящий раб. Это может быть раб терпеливый и стоический, как Эпиктет, но ему никогда не бывать свободным гражданином литературной республики. Впрочем, я покривил душой, сказав, что ему достаточно быть покорным и смиренным, чтобы достигнуть участи Эпиктета, «который жил в бедности и немощи и был любезен бессмертным богам». Ибо этот мудрец и в рабстве сохранял драгоценнейшее из сокровищ — внутреннюю свободу. А именно ее-то г-н де Мопассан отнимает у критиков. Он лишает их даже права «чувствовать». Они должны все понимать, но чувствовать им категорически воспрещается. Им не дано будет знать волнение крови и умиление сердца. Без желаний будут они влачить жизнь более мрачную, чем сама смерть. Идея долга порой очень страшна. Она непрерывно смущает нас трудностями, неясностями и противоречиями, которые влечет за собой. Я испытал это при самых разнообразных обстоятельствах. Но лишь выслушав заповеди г-на де Мопассана, уразумел я всю суровость нравственного закона.
Никогда еще долг не представал мне таким трудным, туманным и противоречивым. В самом деле, легкое ли дело оценивать труды писателя, не вникая, на что направлены эти труды? Можно ли поощрять новые идеи, не давая перевеса поборнику новшеств над поборниками традиций? Можно ли в одно и то же время распознать и игнорировать направление художника? Мыслимая ли задача, с помощью чистого разума судить произведения, порожденные исключительно чувством? Однако именно этого требует от меня мастер, которого я почитаю и люблю. Поистине такие требования не под силу человеку и критику. Я подавлен, и в то же время — признаться ли? — я воодушевлен. Да, подобно христианину, которому его бог заповедует труды милосердия и покаяния и полное самоуничижение, я готов воскликнуть: если с меня столько спрашивается, значит я чего-нибудь стою? Рука, унижавшая меня, в то же время меня и поднимает. Великий мастер и учитель полагает, что семена истины пустили ростки в моей душе. Когда сердце мое преисполнится усердия и смирения, мне будет дано различать литературное добро и зло, и я стану примерным критиком. Но гордость моя, не успев расцвести, тотчас увядает. Г-н Мопассан льстит мне… Я осознаю неизлечимую немощь свою и своих собратьев. Изучать творения искусства и им и мне суждено лишь с помощью чувств и разума — самых неточных приборов в мире. Потому мы никогда и не добьемся верных результатов и наша критика никогда не поднимется до незыблемых высот науки. Она всегда будет страдать недостоверностью. Законы ее не будут точны, а суждения неопровержимы. В отличие от правосудия она сделает мало зла и мало добра, если не считать добрым делом мимолетное увеселение восприимчивых и утонченных умов.