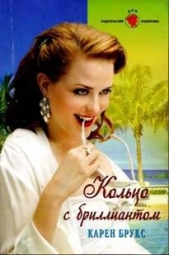Когда всё кончилось

Когда всё кончилось читать книгу онлайн
Давид Бергельсон (1884–1952) — один из основоположников и классиков советской идишской прозы. Роман Когда всё кончилось (1913 г.) — одно из лучших произведений писателя. Образ героини романа — еврейской девушки Миреле Гурвиц, мятущейся и одинокой, страдающей и мечтательной — по праву признан открытием и достижением еврейской и мировой литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— «И было в те дни… и Мордехай сидел у врат царских…»
Знаком остановила она Миреле, хотела о чем-то спросить, но не решилась, и только указала ей на исписанный клочок бумажки, лежавший на столе:
— Ну вот… адрес… надо посмотреть, правильно ли написан адрес Зайденовских…
И почему-то Миреле, прочитав адрес, ничего не ответила матери, ушла к себе в комнату и там в темноте легла на кровать.
Случилось нечто невероятное.
В городе потом уверяли, что в тот самый вечер, воротясь домой, акушерка застала возле своей темной хатенки коляску Вовы Бурнеса. А он сам, Вова Бурнес, целых десять минут стоял перед ней без шапки при лунном свете и едва мог говорить от волнения.
— Я думал, что застану здесь Миреле, — сказал он, — я хотел… хотел ей что-то передать… Да только… Вы, пожалуйста, не сердитесь на меня…
Спустя несколько дней незнакомый человек лет около тридцати пяти подъехал к дому реб Гедальи и обратился к раввину Авремлу, вышедшему к нему навстречу, с вопросом:
— Здесь живет дочь реб Гедальи, Миреле Гурвиц?
Раввин с удивлением поглядывал на гостя, на его большие фельдфебельские усы и, войдя вместе с ним в переднюю, наблюдал за незнакомцем, пока он снимал тулуп и отогревал отмороженный нос и усы. Раввин думал, что это новый посланец от Зайденовского и что приезд его связан с готовящейся помолвкой и свадьбой. А тот, тридцатипятилетний холостяк, доводившийся дядей Натану Геллеру и служивший на сахарном заводе, долго еще сидел с Миреле в тихой гостиной и изводил ее «столичным» разговором до самого вечера. По-русски говорил он плохо, как говорят дантисты, выговаривал «с» вместо «ш» и рассказывал, что его племянник Натан Геллер по-прежнему то и дело справляется о Миреле:
— В каждом письмеце просит узнать, что вы поделываете.
Этот великовозрастный малый особенным умом не отличался: да и какому разумному человеку пришло бы в голову так нелепо, по-провинциальному явиться вдруг с визитом? Миреле нестерпимо скучала, сидя с ним в гостиной; ее раздражала и болтовня его о Натане Геллере, и подозрительные взгляды Гитл, то и дело подходившей к дверям. Она куталась в шаль и мечтала об одном — чтобы он поскорее ушел; а когда он наконец удалился, таким противным показался ей и родительский дом, и помолвка, к которой все готовятся, и вся ее будущая жизнь, и вопросы Гитл:
— Чего хотел этот молодой человек?
Сердито и раздраженно буркнула она матери:
— Пошли за ним гонца вдогонку и справься, чего он хотел.
А сама ушла к себе, разделась и, несмотря на раннюю пору, легла спать. Ведь до помолвки осталось еще несколько дней: за это время могло что-нибудь случиться, а кроме того она вовсе не обязана была думать о нем, богатом сынке Шмулике Зайденовском, и о том новом и неприятном, что должно было с ней произойти.
Перед сном она вдруг неожиданно вспомнила Натана Геллера, и потом целую ночь снилось ей его продолговатое лицо румынского типа. Вот отправился он в десять часов вечера к приятелю, живущему в противоположном конце огромного губернского города, мечтая по дороге о теплой и светлой комнате, где можно будет засидеться до поздней ночи за стаканом чая и рассказывать задумчиво, с глубокой тоской:
— Есть где-то далеко городок, и в том городке живет девушка, которую зовут Миреле Гурвиц. Когда-то любила меня эта девушка… крепко любила…
Целый день потом вспоминалось Миреле лицо его, как бы слегка подернутое туманом и мучительно-милое, и овладевало мыслью и сердцем. Но дома уже все дышало предстоящей помолвкой. Миреле слышала из своего уголка, как в соседних комнатах передвигают столы, как кто-то жалуется и соображает:
— Что вы думаете? Если от Зайденовских приедет не трое человек, а больше, будет тесновато…
Она пыталась изгнать из мыслей образ Натана Геллера и заставляла себя думать о том, что у Шмулика Зайденовского такой европейский вид: «Я уже думала об этом когда-то… во время наших совместных прогулок по уездному городу…»
Глава девятая
Они приехали в пятницу днем — еще нестарые отец с матерью, живущие на тихой окраине большого губернского города, со старшим сыном-женихом и семилетней дочуркой — последышем; привезли они с собой целый запас светски-сдержанных самодовольных улыбок. Улыбка оказалась заразительной: она появилась даже на лицах совершенно посторонних людей, неожиданно ставших добрыми-предобрыми. Все, точно сговорившись, приходили к выводу: «Отцы друг другу очень полюбились… Недаром оба еще в прежние годы в Садагуре „чумаковали [13]“: вот и теперь пришлись друг другу по душе… Не то что жених и невеста…»
Семилетняя сестренка слишком часто, как взрослая, меняла платьица; она неизменно карабкалась на стул матери всякий раз, когда родители рассказывали о том, как она разговорилась в вагоне второго класса со старым генералом.
— Старшая дочь, — рассказывала мать жениха, — кончает в нынешнем году гимназию; она очень занята и должна учиться. А ее, младшенькую, захватили с собою — пускай еще немного погуляет.
И, глядя прямо в лицо ребенку, она быстро мигала маленькими черными глазками, словно близорукая ночная птица, и с тревогой разглядывала черное пятнышко на носу ребенка, спрашивая хрипловатым голосом:
— Ну, как тебе нравится невеста? Видела ты ее?
Благообразно-молчаливая Гитл, сидя рядом, наблюдала гостью: высокая, худощавая, слегка утомленная женщина с матово-смуглым, продолговатым, типично бабьим лицом, тупым куриным мозгом и огромными руками и ногами. В каштановом парике ее красовалась великолепная головная шпилька — фамильная драгоценность, видно, очень дорогая, усаженная бриллиантами.
Говорить ей было не о чем, и она слишком много и самодовольно улыбалась и несколько раз принималась рассказывать сначала:
— Ну вот, пришла телеграмма как раз в Пурим во время ужина… За ужином было гостей человек пятнадцать, и он, значит, Яков-Иосиф, само собою, сразу скомандовал: «Вина! Откопать сейчас вина!» А вино было закопано в погребе еще в том году, когда родился Шмулик… Ну, можете себе представить…
Немного подальше, перелистывая книгу, взятую с маленькой этажерки, рядом с родственником-кассиром, стоял стройный, рослый, двадцатичетырехлетний молодой человек — жених. Два полученных им от кассира письма, написанных весьма цветистым слогом, внушили ему уважение к их автору — видимо, человеку с образованием, и теперь он считал нужным поделиться с собеседником сведениями об Ахад-Гааме [14].
— Знаете ли, это такой человек, который может за целый год не проронить ни единого словечка.
У жениха была небольшая рыжевато-белокурая бородка; бакенбарды, суживаясь около ушей, сливались с темно-русыми волосами, обрамляя лицо круглой полоской. И все же он поразительно походил на отца, некрупного, коренастого, подвижного брюнета средних лет, с красивой черной, как смоль, длинной бородой и бойкими, как будто натертыми лаком, черными глазами. Этот веселый человек сердечно и благодушно облапил реб Гедалью за чайным столом и едва не расцеловался с ним, а потом вдруг, обернувшись к Гитл, прокричал своим сочным, грудным голосом:
— Ну, матушка, какие шесть тортов привезли мы вам в подарок — пальчики оближешь!
Все собирались в синагогу.
Между матерями жениха и невесты сидела раввинша Либка с приехавшей к ней в гости свекровью — бабой с простоватым лицом и давно выпавшими передними зубами, в шелковом платочке на голове. Она не знала, куда деть руки, потрескавшиеся от работы на кухне, и старательно прятала толстый палец, к которому давно уже прирос шестой — лишний. А возле отца жениха сидел раввин Авремл, все время улыбавшийся и покручивавший седеющие пейсы. Он был очень доволен, что отец жениха носит по субботам шелковый чуть-чуть укороченный сюртук и что, стало быть, не перевелись еще на свете благообразные и набожные люди, и застенчиво высказал предположение: