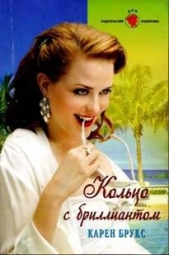Когда всё кончилось

Когда всё кончилось читать книгу онлайн
Давид Бергельсон (1884–1952) — один из основоположников и классиков советской идишской прозы. Роман Когда всё кончилось (1913 г.) — одно из лучших произведений писателя. Образ героини романа — еврейской девушки Миреле Гурвиц, мятущейся и одинокой, страдающей и мечтательной — по праву признан открытием и достижением еврейской и мировой литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Платок… Гитл забыла взять с собою теплый платок…
По-видимому, все сейчас провожали Гитл к ее дяде, живущему в отдаленном городке, и, столпившись, глядели при свете вынесенной из дому лампы, как Гитл садится в собственные сани с приказчиком из кашперовского леса.
Миреле вспомнила: дома, кажется, что-то произошло. Но не хочется думать о том, что будет с нею завтра… А утром… утром как будто сидел здесь кто-то и рассказывал: «У Вовы Бурнеса скоро свадьба с той девицей-брюнеткой… Нанятые стряпухи уже толкут, кажется, миндаль и корицу, а сейчас после свадьбы молодая парочка укатит, говорят, за границу…»
— За границу?
Она лежала в кровати, и у нее были большие тоскливые глаза, словно стояла перед ней далекая темная ночь и прорезывающий ее длинный курьерский поезд, мчащий молодую чету туда, к границе. Глядя в упор на горящую лампу, она думала: «Хорошо, вероятно, так мчаться вдвоем за границу в ночной тьме… Но для нее, Миреле, это теперь недоступно; да и не в этом суть… Ей об этом теперь и думать нечего… Плохо ей, и эти пять тысяч ее… И вся ее будущая жизнь… ах! Лучше всего свернуться клубком и спать, спать…»
Сколько времени проспала она так?
Там, в столовой, изредка затихали одинокие шаги реб Гедальи, нервно расхаживавшего ночь напролет взад и вперед по комнате. Он один выпил почти весь чай из неостывшего еще самовара и почему-то пытался несколько раз приотворить дверь ее комнаты. А она все еще витала в каком-то темном фантастически-дремотном мире, забыв о будничных горестях. И лишь на рассвете, лежа в кровати, вздрогнула, увидя, что узкие, чуть голубеющие, полоски ночи мерцают сквозь щели ставень, а возле нее на кровати сидит реб Гедалья и оправдывается: «Я тебя разбудил… Я не мог удержаться, чтоб не разбудить тебя…»
Так скверно было у него на душе, и не знал он, как сказать правду Миреле, и оттого долго сидел на кровати и все бранил Гитл и кассира:
— Ведь просил же, твердил же я им; не хочу ехать за границу… Мне нельзя было выезжать из дому…
Вдруг Миреле повернула к нему голову и прямо спросила:
— Папа, сколько у тебя осталось денег?
И увидела тотчас, как реб Гедалья поднял кверху плечи, странно согнулся, словно ребенок, ожидающий удара, и развел руками:
— Ничего… Ни гроша…
— Ничего?
Бог весть почему переспросила она его, и Бог весть почему так сильно забилось у нее сердце. Сначала она силилась что-то понять и не могла, а потом уже ей ничего не хотелось, и она лишь смотрела на него неподвижными, слегка удивленными глазами, не понимая, зачем он все еще сидит на кровати возле нее.
Ведь ей уже не о чем его спрашивать… Она знает теперь все. Жутко было остановиться на чем-нибудь мыслью, и так страшно хотелось снова уснуть… Как только реб Гедалья ушел, она повернулась лицом к стенке, глубже зарылась в подушку головой, не открывая глаз, крепче прижала к груди сплетенные руки и постаралась вызвать в памяти образ Натана Геллера…
Вот так… так… Теперь опять уснуть…
На следующий день она проснулась с каким-то твердым, но не вполне еще ясным ей самой решением, и долго лежала в кровати в полудремоте, смутно пытаясь уяснить себе это решение.
Когда-то, помнится, ей представилась возможность покинуть этот дом… постойте… когда это было?
Реб Гедалья вернулся с талесом под мышкой из садагурской молельни и чувствовал себя без Гитл страшно одиноким в опустевшем доме. Он застал Миреле одну в комнате и снова принялся рассеянно перебирать безделушки на ее туалетном столике.
«Судебный»… Возможно, что «судебный» явится к ним сегодня… Наверное еще ничего не известно, но во всяком случае… во всяком случае, пугаться не следует.
— Ага, судебный пристав? Хорошо.
Тихо и не оглядываясь на него, произнесла она эти слова, надела пальто и черный шарф и вышла из дому.
Куда идти? Не все ли равно — куда… Ясно одно; в этом доме она оставаться теперь не может… А несколько дней… Несколько дней можно прожить и у акушерки Шац…
И Миреле прожила несколько дней вместе с акушеркой Шац. Большую часть дня лежала она на кровати грустная, с еще более углубившейся печалью в голубых глазах, устремленных вниз, на земляной пол хаты, и молчала. И однажды, не отрывая глаз от пола, заговорила тихо, растягивая слова, как говорят люди, недавно похоронившие кого-нибудь близкого:
— Двадцать три года прожила я в этом доме… Не жаль мне ни дома, ни этих лет: на что они мне, эти годы, что стала бы я с ними делать? А дом наш? Люди, которые рождаются в таких домах, не умеют смеяться, — они такие, как я.
Однажды акушерке Шац понадобилось заехать на несколько часов в городок к роженице. Она торопилась домой, зная, что Миреле осталась одна, и, воротясь, застала такую картину:
Миреле лежала на кровати в той самой позе, в какой оставила ее акушерка, подложив под голову скрещенные руки. Она глядела в упор на балки потолка и вдруг заговорила вполголоса о том, что бродило у нее в мозгу все это время:
— Такие люди, как я, или становятся кафешантанными певичками, или лишают себя жизни…
Акушерке стало от этих слов как-то не по себе. Она принялась суетиться и начала собирать в кучку носовые платки.
— Как вы думаете, Миреле? Не грех бы мне взяться теперь за работу и постирать платки?
Но Миреле, не слушая, все возвращалась к своему:
— Только жаль, что для кафешантанов я не гожусь — не умею ни петь, ни смеяться… Что же касается самоубийства…
Она изогнулась, лежа, всем своим стройным и гибким телом так, что кровь прихлынула к ее щекам, обнажила руку до самого плеча, оглядела ее со всех сторон и стала медленно поглаживать.
— Такие красивые руки… Мне становится их жалко всякий раз, когда подумаю о самоубийстве…
Акушерка вдруг спохватилась, что забыла купить в городе сардинки. Она бросила в сторону связанные в узелок платочки и чуть не бегом помчалась в город.
— Ну, и голова же у меня в последнее время… Миреле ножки протянет на моих харчах…
Очутившись в городе, она не забыла на минутку забежать к помощнику провизора Сафьяну за новенькой, только что вышедшей книжкой для Миреле. Но Миреле отнеслась к книжке с полным равнодушием; рассеянно взяла ее в руки, не меняя своей позы, монотонно прочла вслух первые две фразы и тотчас же выронила из рук, как ненужную вещь, а потом снова принялась со странной тоской глядеть в окно, и тоскливо прозвучали ее слова:
— Все писатели любят начинать свои книги рассуждениями о чьей-то печальной весне и только растравляют человеку его раны.
Она помолчала, вздохнула и снова заговорила:
— Когда на сердце легко, прощаешь это писателю и читаешь его. Но когда находишься в таком угнетенном состоянии, как я теперь, каждая фраза книги кажется надоедливой мухой, которая то и дело садится на нос и дразнит: ага, плохо тебе… плохо… плохо…
Но как-то вечером случилось, что акушерка взяла в руки маленькую старинную книжечку «Dicta sapientium» — подарок старой помещицы-католички, подсела с этой книжкой на кровать к Миреле и принялась читать испещренные пятнами от слез сильно пожелтевшие страницы, переводя каждый стих по приложенному к книге подстрочнику:
— Omnis felicitas mendacium est…
Казалось, что обе девушки отсиживают по еврейскому ритуалу траур и читают друг другу Книгу Иова, утешаясь: бывают на свете горшие несчастия, чем наши.
От этого чтения как-то уютнее стало в освещенной комнате, и на время исчезла прежняя подавленность. Акушерка даже набила себе, улыбаясь, папироску над коробкой с гильзами, потом, закурив, подсела снова к Миреле на кровать и принялась вспоминать своего друга-писателя.
Он однажды сказал ей: «Счастливых людей можно теперь встретить разве лишь среди коммивояжеров. Это, конечно, ужасно досадно, но мы можем утешать себя мыслью, что они за игрой в карты не видят вовсе своего счастья».
Обе девушки немного помолчали и со злорадным чувством подумали о коммивояжерах: