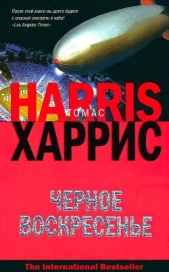Том 6. Нума Руместан. Евангелистка
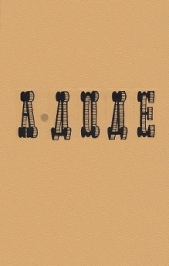
Том 6. Нума Руместан. Евангелистка читать книгу онлайн
Настоящее издание позволяет читателю в полной мере познакомиться с творчеством французского писателя Альфонса Доде. В его книгах можно выделить два главных направления: одно отличают юмор, ирония и яркость воображения; другому свойственна точность наблюдений, сближающая Доде с натуралистами. Хотя оба направления присутствуют во всех книгах Доде, его сочинения можно разделить на две группы. К первой группе относятся вдохновленные Провансом «Письма с моей мельницы» и «Тартарен из Тараскона» — самые оригинальные и известные его произведения. Ко второй группе принадлежат в основном большие романы, в которых он не слишком дает волю воображению, стремится списывать характеры с реальных лиц и местом действия чаще всего избирает Париж.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Розали! Что ты говоришь!..
Сестра и муж возмущались. Особенно сестра, высокая девушка, излучавшая жизнь и здоровье и еще выпрямившаяся, чтобы лучше все видеть. Она впервые попала в Прованс, а между тем казалось, что все эти крики, вся эта суматоха под ярким итальянским солнцем пробуждали в ней скрытую жилку, дремавший инстинкт, южную кровь, о которой говорили длинные сросшиеся брови над очами гурии и матовость лица, не красневшего от летнего загара.
— Послушай, милая Розали, — говорил Руместан, стараясь во что бы то ни стало убедить жену, — встань и погляди хорошенько… Могла бы ты увидеть в Париже что-нибудь подобное?
В широком эллипсе огромного амфитеатра, отрезавшего от неба кусок его могучей лазури, на поднимавшихся ярусами ступенях теснилось множество людей, остро сверкали взгляды, многоцветно переливалась яркость праздничных женских нарядов и живописных национальных одежд. Оттуда, как из гигантского чана, поднимались восторженные взвизги, громкие восклицания и звуки фанфар, испарявшиеся, если можно так выразиться, от ослепительного света и зноя.
Особенно отчетливо доносились крики продавцов молочных булочек, которые перетаскивали с яруса на ярус прикрытые белыми полотенцами корзины:
— Li pan on la, li pen ou lal.
Резкие голоса разносчиц холодной воды, раскачивавших кувшины с зеленой поливой, невольно возбуждали жажду:
— L'aigo е$ fresco… Quau vou beure? (Вода холодная… Кто хочет пить?)
А на самом верху, у гребня амфитеатра, уже в птичьем царстве, рядом с проносившимися взад и вперед стрижами бегали и играли ребятишки, и их звонкие голоса казались переливчатым венцом над смутным гулом нижних ярусов. И какая надо всем этим была изумительная игра света, усиливавшаяся по мере того, как время шло и солнце медленно поворачивалось вдоль широкой окружности амфитеатра, как на диске солнечных часов, оттесняя толпу, сгущая ее в затененной зоне и оголяя места, где было уж чересчур жарко, оголяя порыжевшие плиты, разделенные пучками сухой травы и черными следами давнишних пожаров.
Иногда на верхних ярусах под напором толпы от древнего строения отделялся камень и перекатывался с этажа на этаж, вызывая крики ужаса и давку, словно весь цирк рушился. И тогда на ступенях амфитеатра возникало движение, подобное бурному прибою, бьющему о береговые утесы, ибо у этого впечатлительного люда действие весьма мало связано со своей причиной: оно всегда преувеличено воображением, какими-то несоразмерными представлениями.
Так развалины амфитеатра, загроможденные шумной толпой, словно оживали, утрачивая облик древнего памятника, по которому гиду полагается водить туристов. Их вид порождал то же чувство, какое может вызвать строфа Пиндара, прочитанная афинянином наших дней, то есть впечатление мертвого языка, который вдруг ожил, сбросив с себя холодное схоластическое обличье.
Безоблачное небо, распыленное серебро солнечного света, латинские интонации, сохранившиеся в провансальском наречии, человеческие фигуры на площадках под сводом, застывшие позы, которые от вибрации воздуха вдруг обретают античный, почти скульптурный характер, да и сам местный тип, сами лица, словно выбитые на медалях, с недлинным, но горбатым носом, широкие бритые щеки и крутой подбородок Руместана — все это способствовало иллюзии, будто здесь происходит зрелище римских времен, все вплоть до мычания скота, доносившегося из подземелий, откуда в древности выпускались львы и боевые слоны. И потому, когда на пустой, желтой от песка арене открывалась решетка подиума, можно было ожидать, что из огромной зияющей дыры появится не мирная сельская процессия — животные и люди, премированные на конкурсе, а выскочат дикие звери.
Сейчас наступила очередь мулов в парадном уборе. Их вели под уздцы, и они, накрытые роскошными провансальскими спартри, [2] выступали, запрокинув маленькие четкие головы, разубранные серебряными бубенцами, помпонами, бантами и кисточками, не пугаясь хлопанья бичей на арене, резкого, звонкого, словно взрывы ракет фейерверка. На мулах ехали, стоя, их владельцы, и жители каждой деревни, находившиеся в толпе зрителей, узнавали своих лауреатов и громко называли имена:
— Вот Кавайон… Вот Моссан…
Блистательное шествие длинной змеей огибало арену, наполняя ее бряцающим блеском, сияющим звоном, задерживалось у ложи Руместана, приветствовало его согласованным на миг звяканьем металла, хлопаньем бичей, а затем продолжало круговой обход под главенством видного из себя всадника в светлом, плотно облегавшем его тело кителе и высоких сапогах, одного из членов местного Клуба; организатор празднества, он, сам того не ведая, все портил: он вносил в Прованс провинциальный дух и придавал любопытному народному зрелищу неярко выраженное сходство с кавалькадой из цирка Франкони. Впрочем, никто, кроме некоторых крестьян, на шествие не смотрел. Все глаза устремлялись на эстраду, которую сейчас заполняла толпа людей, явившихся приветствовать Нуму: то были друзья, клиенты, бывшие школьные товарищи, гордые своей близостью к великому человеку и возможностью продемонстрировать эту близость отсюда, с подмостков, перед всем честным народом.
Посетители двигались беспрерывным потоком. Тут были и стар и млад, сельские дворяне во всем сером — от гетр до шапчонки, цеховые мастера, надевшие ради праздника сюртуки, на которых еще виднелись неразглаженные складки, домохозяева, фермеры из апсского предместья в пиджаках с закругленными полами, лоцман из Пор-Сен-Луи, теребивший в руках шапку каторжанина. На всех лицах лежала печать Юга, — заросли ли эти лица до самых глаз бородами цвета черного дерева, которые кажутся еще чернее от матовой бледности, свойственной людям Востока, выбриты ли они начисто, как полагалось в старой Франции. У всех были короткие шеи, все лоснились, словно кувшины из обожженной глины, у всех сверкали черные глаза навыкате, все фамильярно жестикулировали и говорили друг другу «ты».
И как встречал их Руместан! Он не придавал значения состоянию или происхождению, его неиссякаемая сердечность распространялась на всех.
— Э! Мосье д'Эспальон! Как живешь, маркиз?..
— Эге-ге! Старина Кабанту! Ну как твоя лоцманская служба?
— Сердечный привет господину председателю Бедарриду!
И начинались рукопожатия, объятия, похлопывания по плечу, которыми подкрепляются слова, всегда слишком холодные с точки зрения южан, когда они преисполнены к кому-либо симпатии. Но разговор никогда не затягивался. Лидер слушал собеседника одним ухом, взор его блуждал, и во время разговора он махал рукой вновь подошедшим. Но никто не обижался на то, что он торопился распрощаться с собеседником.
— Ладно, ладно!.. Я похлопочу… Напишите прошение… Я возьму его с собой.
Обещал он похлопотать насчет табачного ларька, насчет должности податного инспектора. Если с прямой просьбой к нему не обращались, он старался угадать нужду, подбадривал робких честолюбцев, вызывал их на откровенность. Подумать только: у старины Кабанту двадцать случаев спасения на водах, и ни одной медали!
— Пришлите мне документы… В морском ведомстве меня обожают!.. Мы восстановим справедливость.
Он произносил слова твердо, раздельно, и звучали они горячим металлическим звоном, словно по столу катились только что вычеканенные червонцы. И все отходили, радуясь этим блестящим монеткам, спускались с эстрады сияющие, как школьники, уносящие полученные награды. Самым замечательным в этом чертяке была его изумительная способность перенимать повадку и тон тех людей, с кем он говорил, и притом непосредственно, бессознательно. Разговаривая с председателем суда Бедарридом, он обретал елейный вид, плавные жесты, умильную улыбочку и при этом торжественно вытягивал руку, словно потрясал своей тогой в зале суда. Когда он беседовал с полковником де Рошмором, у него появлялась выправка военного, и он лихо заламывал шляпу, а перед Кабанту стоял, засунув руки в карманы, согнув ноги дугой, сутулясь, как старый морской волк. Время от времени, в перерыве между двумя дружескими объятиями, он возвращался к своим парижанкам и с блаженным видом отирал покрытый испариной лоб.