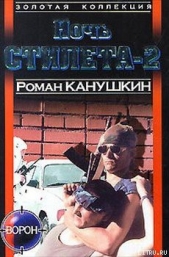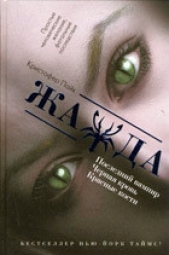Желтый песочек

Желтый песочек читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А потом начали шить шпионаж в пользу Польши. И прицепили к нему дядьку Автуха, что жил на хуторе за деревней и не вступал в колхоз. А он с тем Автухом и разговаривал всего один раз прошлым летом, когда приезжал из Минска к больному отцу. Пришел тогда попросить лошадь, чтобы съездить к доктору. Но дядька Автух лошадь не дал, сказал, чтобы взял в колхозе, а ему надо успеть свезти сено, пока не начался дождь. И говорили-то всего пять минут. И вот теперь за эти минуты — расплата. Оба — к высшей мере.
— Ну чего вам не сидится? Все крутитесь, как на сковороде, — послышался недовольный голос в темноте.
— Хоть бы выглянуть где. Тут же деревня моя — Зеленый Луг, — ответил тот, что крутился.
— Ты же городской, говорил, — отозвался от дверей Сурвило. — Показывал на допросе: из Комаровки.
— То жил я на Комаровке. Когда на железке работал. А родился в Зеленом… Да.
— Вот — выясняется! — сказал Сурвило. — А то все — рабочий, железнодорожник. Путаете что-то, Шостак.
— Ничего не путаю. Происхождением из деревни. Но рабочий. Это надо взять во внимание! И партийный!
— Был, — коротко объявил Сурвило.
Реплика бывшего чекиста затронула больную струну в раненой душе рабочего Шостака, заговорившего как о чем-то недосказанном и больном.
— Был и остаюсь. Уже не откажусь, не такой. Перед партией я чистый.
Машину сильно подбросило на какой-то колдобине, поэт Феликс Гром даже вскрикнул от боли внутри. Кто-то впереди в темноте выругался:
— Падлы! И перед концом не могут по-людски! В бога-душу их мать!
— А потише нельзя? — со злостью упрекнул Сурвило.
— А что потише? Тише-тише! Да пошли вы…
— Ты кто? Как фамилия?
— А тебе что? Ты следователь?
— А хотя бы и так.
— Ну, Зайковский. Если следователь, то, наверно, записано в вашем сраном приговоре. Такую их мать!.. Да не наваливайся ты так, буржуйский чмырь! — вызверился он на кого-то в темноте. — У меня вот рука сломана…
Здоровой рукой Зайковский придерживал плечо соседа, который на поворотах прислонялся к нему, и тогда остро болела сломанная лопатка. Перелом был внутренний, закрытый, случился неделю назад на допросе, когда его с полчаса отхаживали два следователя — молодой, тонкий, как глист, и пожилой — усатый, с орденом на гимнастерке. Добивались его подписи, что он — польский шпион, связанный с дeфензивой, по прозвищу Млынец. Но Зайковский не был лазутчиком, тем более Млынцом, потому что был обыкновенным московским грабителем, который надумал спрятаться от угрозыска в Минске. В Москве за ним числилось аж восемь ограблений, хотя, правду говоря, их было больше (не меньше четырнадцати), и он все как-то выкручивался, не давался в руки ни уголовному розыску, ни ГПУ, ни милиции. Пока его не выдала любовница Ванда. Подлая стукачка Ванда сначала пригрела, а потом продала. Хорошо еще, что он такой верткий и убежал из милиции, замочив одного мильтона. И сообразил, что в Москве его дела закончились, надо рвать когти. Тогда он вспомнил, что в Минске когда-то проживал его дядя, с которым он не виделся со времен нэпа. Приехав, долго искал нужный ему номер на какой-то Заславской улице, а когда нашел, понял, что дал маху: дядя куда-то вытряхнулся, в домике с зеленым садиком жили другие люди, которые о дяде и не слышали. Где было его искать, где ночевать даже? Пошел на вокзал. Знал ведь: вокзалы — не самое лучшее место для таких, как он, бродяг. Но здорово находился за день, устал, как раз пошел дождь, и он решил посидеть немного, обсохнуть. Но не выдержал — заснул. На вокзале его и взяли. Просто так, с улыбочкой, два мильтона попросили пройти. Вот и прошел свой довольно короткий, путаный путь — от вокзальной скамьи до скамьи подсудимых. И теперь — высшая мера.
Если бы не эта лопатка, он бы, конечно, рискнул. Была еще сила, еще не всю выбили на костоломных допросах. Но с такой лопаткой, считай, однорукий. А с одной рукой — все, кранты. И Зайковский только кусал губы — от боли и от отчаяния, что ничего не мог изменить в своей несложившейся судьбе.
Между тем обруганный им буржуйский чмырь Валерьянов отвернулся от сварливого соседа и не проронил ни слова. Вообще он мало обращал внимания на то, что происходило вокруг, и привычно жил в мире собственных мыслей — единственном мире, куда он мог не пускать никого. Даже в тюрьме. Ни с плохим, ни с хорошим, что в это проклятое время могло легко превратиться в свою противоположность. Как и обыкновенное человеческое расположение, участие, которые оборачивались несчастьем. Двоюродная сестра Валерьянова, оказавшаяся после войны в Кракове, случайно узнала о незавидной судьбе брата, который зарабатывал на хлеб счетоводом в Минске и воспитывал двух маленьких девочек. Сестра решила отозваться. Весной, накануне католической Пасхи, Валерьянов получил на почте маленький пакетик с нездешними штампами и нашел в нем два детских платьица, белые чулочки, безопасную бритву для себя и пакетик конфет в блестящих обертках. Для его девочек это было огромной радостью, да и он порадовался — больше всего первой за пятнадцать лет весточке от сестрички-гимназистки, которую, думал, навсегда потерял в девятнадцатом году, когда они расстались в Киеве. Однако недолгой была эта их радость. Не прошло и месяца, как однажды под утро в дверь постучали. Жена Дуся вскочила с кровати и сразу запричитала — она уже предчувствовала, что это такое. Да и он догадался сразу, открыл дверь и уже не закрыл ее — закрыли за ним чужие. Так же, как и за женой, которая билась в истерике, кричала и бросалась на каждого из целой своры чекистов, перевернувших в их комнатенке все вверх ногами. Уже назавтра те платьица и чулочки стали на следствии вещественными доказательствами его шпионских связей с польской разведкой.
Это был его шестой арест после революции. Он уже устал оправдываться и на допросах в основном молчал, принимая оскорбления и побои как что-то правомерное и заслуженное. Между допросами жил воспоминаниями о своей давней, дореволюционной, такой не похожей на теперешнюю жизни. И там было разное, но была учеба, военная служба и даже два предвоенных путешествия — в Баварию и Австрийские Альпы. В Кракове он никогда не был и не думал, что этот незнакомый город так трагически прикоснется к его судьбе.
Иногда, когда немного стихал шум в камере, Валерьянов молился — разговаривал с Богом. Просил у него — не за себя — за двух маленьких деток, что остались теперь неизвестно где. Больше молиться ему было не за кого. Просить Бога за жену, видимо, не имело смысла — зная ее характер, Валерьянов думал, что по-хорошему с ней не обойдутся. А на зло она бросается, как тигрица, не посмотрит кто перед ней — следователь, конвоир или даже начальник тюрьмы, ее не остановят ни чин, ни сила. Арестовав, чекисты повели ее со связанными руками. Из собственного опыта Валерьянов знал, что такие характеры в тюрьме долго не выдерживают. Или их убивают, или они сами убивают себя. Потеряв в революции первую жену-дворянку, он женился на дворниковой дочери Дусе, думал, что теперь пришло их время. Но ошибся. Время настало, видимо, совсем непригодное ни для тех, ни для других. Не дали жить с Дусей, не дали жить и самой Дусе. И вот остались теперь две девочки-школьницы, что с ними будет?
О том, что вскоре будет с ним самим, Антон Аркадьевич не очень беспокоился, он понимал, что приговор ему вынесен не позавчера, а, наверно, еще в семнадцатом. И то чудо, что он прожил потом еще столько лет, — теоретически это было невозможно, практически все-таки произошло. Только зачем? Что дали ему эти дополнительные годы жизни? Все время страх, риск, заботы — за себя, за жену, за маленьких детей. Все же, наверно, он плохо сделал, что женился и пустил на свет голытьбу, безотцовщину. На что надеяться малышкам без отца и матери — на добрых людей? Но где те добрые люди. Перевелись до конца. Осталась надежда на светлое провидение, на Господа, который неужели не поможет? Неужели не возьмет под свою божескую опеку маленьких беспомощных ангелочков?
Колеса яростно бросали в них ошметки грязи. Кожанка Сурвило стала быстро намокать, как и рыжий суконный армяк Автуха. Они изо всех сил старались, упираясь ногами в грязное дно лужи, но машина не трогалась с места, видно, здорово засела. Когда до Костикова это дошло, он крикнул шоферу, чтобы перестал газовать, жечь бензин по-глупому. Тяжело дыша, Сурвило с Автухом выпрямились. В это время из будки послышался глуховатый голос Шостака: