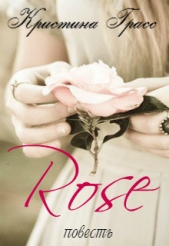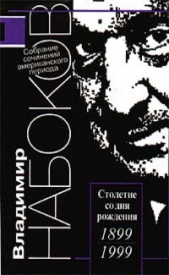Как там, в Алеппо…

Как там, в Алеппо… читать книгу онлайн
Эта книга представляет собой собрание рассказов Набокова, написанных им по-английски с 1943 по 1951 год, после чего к этому жанру он уже не возвращался. В одном из писем, говоря о выходе сборника своих ранних рассказов в переводе на английский, он уподобил его остаткам изюма и печенья со дна коробки. Именно этими словами «со дна коробки» и решил воспользоваться переводчик, подбирая название для книги. Ее можно представить стоящей на книжной полке рядом с «Весной в Фиальте».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В лучшем мире я мог бы обнаружить местонахождение своей жены и подсказать ей, что делать (со мной были оба билета и бо́льшая часть денег), в нашем же случае моя кошмарная борьба с телефоном оказалась бесполезной, — пришлось отмахнуться от нескольких сдавленных голосов, лающих на меня издалека, я отправил две или три телеграммы, которые, наверное, до сих пор в пути, и поздно вечером сел в местный поезд до Монпелье, дальше которого ее поезд не должен был уйти. Не найдя ее там, я оказался перед выбором: продолжать путь, поскольку она могла сесть на марсельский поезд, только что мной пропущенный, или ехать назад, потому что она могла вернуться в Фошер. Сейчас не помню, какая путаница умозаключений привела меня в Марсель и Ниццу.
Помимо обычной рутины, вроде отправления неверных сведений во множество невероятных мест, от полиции не было никакого прока: один жандарм наорал на меня за то, что я доставляю лишние хлопоты, другой запутал дело тем, что поставил под сомнение подлинность моего свидетельства о браке, так как оно было проштамповано, как он утверждал, не с той стороны, третий — жирный комиссар с водянистыми желтыми глазами — признался, что тоже пишет стихи в свободное время. Я искал новые знакомства среди бесчисленных русских, живших или застрявших в Ницце. Слушал рассказы тех, в ком текла еврейская кровь, об обреченных соплеменниках, загнанных в поезда, направлявшиеся в ад, и собственная моя участь приобретала банальный оттенок заурядности, пока я сидел в каком-нибудь переполненном кафе с млечно-голубым морем, вздымавшимся передо мной, и ракушечным шепотом за спиной, рассказывающим и пересказывающим историю избиений и катастроф, а также про серый рай за океаном, привычки строгих консулов, их причуды.
Через неделю после моего приезда ленивый чин в штатском навестил меня и повел по кривой, вонючей улочке в покрытый копотью дом с вывеской hôtel, полустертой от грязи и времени; там, как он сказал, нашли мою жену. Предъявленная им девушка оказалась, конечно же, абсолютной незнакомкой, но мой Шерлок Холмс некоторое время надеялся выбить из нас признание, что мы женаты, пока ее немногословный и мускулистый любовник стоял у кровати и слушал, скрестив руки на груди в полосатой майке.
Отделавшись, наконец, от этих людей, направляясь домой, я наткнулся на небольшую очередь у входа в продуктовый магазин, и там, в самом ее конце, стояла моя жена, приподнявшись на цыпочки, чтобы разглядеть, что же именно продают. И первое, что она мне сказала, относилось к апельсинам, которые там продавали.
Ее рассказ был весьма путаным, но совершенно банальным. Она вернулась в Фошер и сразу отправилась в комиссариат, вместо того чтобы справиться на станции, где я оставил для нее записку. Какие-то беженцы предложили ей присоединиться к ним; она провела ночь в велосипедном магазине, где не было ни одного велосипеда, на полу, вместе с тремя пожилыми дамами, лежавшими, по ее выражению, в ряд, как бревна. На следующий день она увидела, что у нее не хватает денег, чтобы добраться до Ниццы. Одна из бревноподобных попутчиц одолжила ей немного денег. Она села не в тот поезд и все-таки доехала до города, название которого не могла сейчас припомнить. Попала в Ниццу два дня назад и встретила знакомых в русской церкви. Они сказали ей, что я где-то здесь, разыскиваю ее и, несомненно, вскоре появлюсь.
Несколько позже, когда я сидел в своей мансарде на краешке единственного стула и обнимал ее стройные молодые бедра (она расчесывала мягкие волосы, запрокидывая голову при каждом взмахе гребешка, и чему-то мечтательно улыбалась), губы ее вдруг задрожали и она положила руку мне на плечо, взглянув на меня так, как если бы я был отражением в воде, замеченным ею впервые.
«Я соврала тебе, милый, — сказала она. — Я лгунья. Я провела несколько ночей в Монпелье с хамом, которого встретила в поезде. Я совсем этого не хотела. Он продавал лосьоны для волос».
Время, место, пытка. (Ну Вы же помните «Отелло»!) Ее перчатки, веер, маска. Я провел эту и много других ночей, выпытывая у нее подробности, но так и не узнав их все. Я пребывал в странном заблуждении, что сначала должен узнать все детали, воссоздать каждую минуту и только затем решить, смогу ли я это вынести. Но предел неутоляемого знания был недостижим, и мне было трудно представить ту приблизительную черту, за которой я почувствую себя удовлетворенным, так как, наверное, знаменатель каждой дроби знания возрастает в прогрессии, обратной передышкам между поступлением информации.
При первом объяснении она была слишком утомлена, чтобы испугаться, а затем решила, что я ее оставлю; вообще она, по-видимому, считала, что такое признание должно стать чем-то вроде утешительного приза для меня, а не горячкой и агонией, какими оно было в действительности. Так продолжалось целую вечность, она то теряла самообладание, то вновь обретала его, отвечая на мои непристойные вопросы сдавленным шепотом или пытаясь с жалкой улыбкой выкрутиться за счет не относящихся к делу деталей, а я скрипел и скрежетал коренными зубами, пока моя челюсть едва не взрывалась от острой, невыносимой боли, которая казалась все-таки предпочтительней тупой, ноющей боли смирившегося отчаяния.
И заметьте, между приступами этих дознаний мы пытались получить от несговорчивых властей необходимые бумаги, которые в свою очередь позволят на законных основаниях подать прошение о других бумагах, которые послужат ступенькой на пути к получению разрешения, дающего право их обладателю составить заявление на приобретение еще каких-то бумаг… Но если я и мог вообразить ужасную сцену, то не был способен связать остроугольные, гротескные тени с тусклым, смутным телом моей жены, когда она дрожала-сотрясалась-растворялась в моих объятиях.
Таким образом, оставалось только мучить друг друга, просиживать часами в префектуре, заполнять анкеты, совещаться с друзьями, уже исследовавшими все закоулки лабиринта визовой службы, умолять секретарш и снова заполнять анкеты, в результате чего ее расторопный и напористый коммивояжер-попутчик в моем сознании оказался вовлечен в чудовищный хоровод вопящих чиновников с крысиными усами, с истлевшими кипами старых досье, с вонью фиолетовых чернил, взятками, подсунутыми под промокашки с венозным узором на них, с жирными мухами, почесывающими влажные шейки своими проворными липкими лапками, с новенькими, непослушными, вогнутыми фотографиями ваших шести дегенеративных двойников, с трагическим взглядом и терпеливой вежливостью посетителей родом из Слуцка, Стародуба или Бобруйска, с тисками и зубцами святой инквизиции, с несчастной улыбкой лысого человечка в очках, которому сказали, что его паспорт потерян.
Признаюсь, что однажды вечером, после особенно жуткого дня я опустился на каменную скамью, плача и проклиная опереточный мир, где миллионами жизней жонглируют потные руки консулов и служащих комиссариата. Заметил, что она тоже плачет, и сказал ей, что все это не имело бы значения, если бы она не сделала того, что сделала.
«Ты решишь, что я сумасшедшая, — сказала она с неистовостью, которая на секунду чуть не превратила ее в реального человека, — но ничего этого не было, клянусь, что не было. Возможно, я проживаю несколько жизней одновременно. Возможно, я хотела испытать тебя. Возможно, эта скамья — сон, а мы в Саратове или на какой-нибудь звезде».
Скучно перебирать все версии, которые я мысленно реконструировал перед тем, как окончательно принять первый вариант ее исчезновения. С ней я не разговаривал и много времени провел в одиночестве. Она мерцала и гасла, и появлялась вновь с каким-нибудь пустяком, который, она думала, я оценю: пригоршня вишен, три драгоценные сигареты и тому подобное, — обращаясь со мной с невозмутимой, молчаливой заботливостью медсестры, что подходит и отходит от выздоравливающего угрюмца. Я перестал посещать бо́льшую часть наших знакомых, так как они потеряли интерес к моим визовым делам и, казалось, стали смутно-враждебными. Написал несколько стихотворений. Выпивал все вино, которое попадалось под руку. Однажды я прижал ее к истерзанной груди — и мы отправились на неделю в Кабуль, где лежали на крупной розовой гальке узкого пляжа. Странное дело, чем счастливее казались наши новые отношения, тем сильнее я чувствовал изнанку жестокой печали, но говорил себе, что это неизбежная черта всякого подлинного счастья.