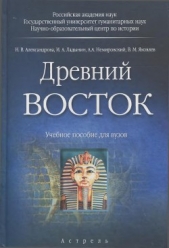Edmee

Edmee читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но и тогда она была уже не ребенком. Я это заметил, сравнивая с ее младшей сестрой, которой было лет десять. Та иначе обходилась с мальчиками во время игры, более запросто, более беззаботно, и сама еще была неуловимо похожа на мальчика. Эдмэ уже несколько сторонилась. Молодым людям отеля она еще кланялась первая и не обижалась, когда они говорили ей ты, но я видел, что при встрече с существом другого пола в ней уже что-то инстинктивно настораживалось, подбиралось, подтягивалось. Она этого не сознавала, но я это видел. Великое притяжение, первые признаки которого, по странной и мудрой воле природы, выражаются в отталкивании, уже смутно пробуждалось в тайниках души, недоступных ее собственному взгляду. Фигура у нее была еще совершенно детская, но жесты, походка, манера, когда она нагибалась, подымалась на цыпочки, останавливалась на бегу — все это уже было от девушки.
Когда я узнал ее ближе и присмотрелся к ней, мне пришло в голову, что это, быть может, самая красивая пора в развитии женского существа. Конечно, не у всех женщин. Есть ведь и знаменитый тип девочки-подростка с красными руками и угловатыми манерами; впрочем, поверьте мне, чем дальше на Запад, чем выше по культурной лестнице, тем реже он попадается. Но есть натуры, у которых этот перелом совершается без резкости, как бы внутренне, под кожей. У таких натур возраст подростка — самый обаятельный, самый поэтический, самый благоуханный. Я вообще того мнения, что заря лучше утра и полудня, апрель лучше мая. Именно там, где незаметно совершаются загадочные переходы природы от одного состояния к другому, там всего явственнее внятен аромат великой тайны, веяние Бога, пролетающего мимо «с волшебной палочкой в руках». Там душа твоя смутно угадывает мириады дивных возможностей, из которых, вероятно, ни одна потом не осуществится. Три прекрасные вещи создал Бог: детство, юность и женщину. Вдумайтесь, как возвышенно красив должен быть момент, когда эти три прекрасные вещи сплетаются воедино — когда в душе и теле женщины совершается перерождение от детства к юности! Если бы я не боялся, что вы меня примете, Gott bewahre [7], за любителя парадоксов, я бы сказал, что женщина, собственно говоря, с четырнадцати лет начинает стареть. Впрочем, может быть, это все объясняется тем, что я старый, убежденный холостяк, слишком мало женщин видавший на своем веку. Может быть. Как хотите. Но это — мое мнение, и при нем я остаюсь.
Мы подружились. Перед завтраком, когда дети переставали играть, Эдмэ приходила ко мне в сад, еще с куклой, серсо или скакалкой в руках, и мы начинали беседовать. Она говорила и как дитя, и как женщина. Болтала она обо всех пустяках детской жизни, об играх, о пансионе, мило и чуть-чуть сплетничала о своих подругах здешних и школьных, об их семьях и гувернантках, передавала свои проказы — чрезвычайно тонкие, грациозные, хорошего тона проказы, и вдруг переходила к серьезным вопросам — о добре, о зле, о Боге. Однажды она мне рассказала свои мысли об эгоизме. Ее мисс уверяет, что человек должен быть такой добрый, чтобы ему легче было самому умереть с голоду, чем не дать голодному хлеба. Но если так, то где же заслуга? Если творишь благо потому, что это тебе доставляет удовольствие, то разве это не тот же эгоизм? Она сама, Эдмэ, подарила однажды девочке в пансионе свою брошку с сердоликом, потому что девочка ужасно завидовала ей и плакала, но Эдмэ совсем не хотелось так поступить, она заставила себя и потом сама всю ночь горько плакала. Если послушать мисс, то это еще не значит быть хорошей, а надо стать такою, чтобы твои руки так и рвались сами все отдать. Как вы думаете, кто прав? В другой раз оказалось, что она сторонница смертной казни. Казнить надо убийц и политических преступников, а кроме того, таких мужчин, которые покидают жену и детей ради новой любви. Она не понимает, как можно примириться с изменой. Когда ей в пансионе изменила подруга, Эдмэ с ней перестала говорить и никогда в жизни уже не помирится. Со своего младшего брата Андрэ она взяла клятву, что если когда-нибудь муж ей изменит, она вызовет Андрэ телеграммой из Сингапура, где он тогда будет консулом, и он убьет того человека.
Но о чем бы она ни говорила, о Лукени, который убил императрицу Елизавету, или о своей подруге Клео, которая ужасно прожорлива, она себя держала, как взрослая. Содержание беседы могло быть ребяческим, форма и манеры говорили о том, что передо мною женщина. В чем это проявлялось, я не могу точно определить. Un je ne sais quoi [8]. Раз ко мне приехали два господина и провели на острове день; я их познакомил с Эдмэ, и они вынесли тоже впечатление. Она не дичилась, а просто сначала присматривалась и только отвечала на вопросы, но потом разговорилась, и получилось впечатление, что это маленькая умная хозяйка занимает свой салон. Она то шутила, то становилась серьезна, загадывала нам загадки, расспрашивала о России (мои гости были ваши соотечественники), рассказывала о городе, где папа был консулом. Старший из моих гостей был седой старик; когда смеркалось, она спросила, не сыро ли, не принести ли ему плед. Но другой был молодой человек, лет тридцати семи, с красивой бородой, и я заметил, что она несколько раз внимательно скользнула по его лицу глазами, а вообще держала себя с ним как-то осторожнее, чем с нами, избегала прямо к нему обращаться и на его вопросы отвечала короче, и голос ее тогда звучал замкнуто.
Через неделю после этого Эдмэ пришла в сад без куклы и серсо и сказала мне, что завтра они уезжают. Мне стало невыразимо грустно, до того грустно, что я мысленно разбранил себя. Что такое? Как не стыдно? С одной стороны, мне все-таки пятьдесят два года, и не мог же я влюбиться в эту девочку; с другой стороны, я все же еще не так одряхлел, как во время оно царь наш Давид, в котором только теплота чужой юности могла поддерживать биение жизни. Так я себя уговаривал, но сердце мое болело, и Эдмэ прочла это по моему лицу. Она вдруг стихла и пристально, не отводя взора и не мигая, смотрела мне в глаза; ее синие глаза совсем потемнели. Одно мгновение мне казалось, что из-под ее ресниц побегут слезы; еще одно мгновение мне казалось, что она станет коленями на скамью и кинется мне на шею. Но она не заплакала и не кинулась, а только тихо, почти неосязаемо положила руку на мой рукав и сказала особенным, тихим, грудным, сосредоточенным голосом, какого я еще не слышал и не подозревал, голосом женщины, которая все и давно поняла:
— Я тоже буду тосковать о вас, мой единственный друг на Принкипо.
Признаюсь, у меня было движение поцеловать ей руку, но я во время опомнился. Я уверен, что она бы не удивилась, но я сам почувствовал, что нельзя. Я даже не погладил ее волос. Я проглотил что-то такое, что стояло поперек горла, и сказал, лишь бы что-нибудь сказать, криво улыбаясь:
— Разве я ваш единственный друг на Принкипо, Эдмэ? А подруги ваши по играм? А Клео?
И тогда она мне ответила буквально следующее… Эти слова, что называется, еще звучат в моих ушах. Я, однако, начинаю колебаться, передать ли вам их: мне теперь только пришло в голову, что вы из них сделаете свои излюбленные выводы. Впрочем, так и быть, знаете роман, знайте и развязку. Она ответила буквально следующее:
— Ах, Клео… Знаете, ведь она еврейка, этим все сказано. Я вообще за то не люблю Принкипо, что тут всегда масса евреев. Они такие вульгарные, я не выношу. А вы?
1912