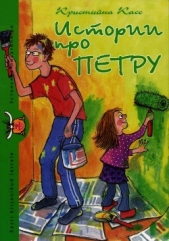Буревестник

Буревестник читать книгу онлайн
Чтобы написать эту книгу, Петру Думитриу, лауреат Государственной премии за 1955 год, провел некоторое время на море, среди рыбаков. Сначала рыбаков удивляло присутствие чужого человека, работавшего рядом с ними. Им не хотелось давать ему весла.
Позднее, когда они подружились, писатель признался, что он не рыбак и пришел к ним с другой целью, чтобы написать книгу.
«Однако жизнь рыбаков на плавучей базе «Октябрьская Звезда» — не только трудная, тяжелая работа, — говорит Петру Думитриу. — Бывает и отдых, когда опускается сумрак, когда небо и море словно заволакивает мягким светом и тихо колышется, убаюкивая вас, волны.
В этот час завязываются разговоры, бывалые моряки рассказывают о своих путешествиях, рыбаки читают газету, а молодежь танцует на юте под звуки гармоники».
Все это постепенно заполняло страницы писательского блокнота. Так создавался «Буревестник»…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Пишите декларации и подписывайтесь, — заявил он мрачно. — В конце концов, никто не просил датчанина драться с одним из этих бродяг, по недоразумению считающих себя экипажем, которых он — полицейский, — не задумываясь засадил бы в тюрьму, только раз взглянув на их физиономии…
В результате «Арабелла Робертсон» беспрепятственно покинула Мальту и снова пошла бороздить голубые воды Средиземного моря. Вот тогда и возникла нерушимая связь между Прикопом Даниловым, старым Стягой и Спиру Василиу, державшаяся все время, пока эти трое плавали на «Арабелле Робертсон» и позднее, после ее гибели, когда Прикоп, Спиру и Стяга работали уже на румынских судах. Никто не знал, что их связывает тайна, которая, к тому же, не была единственной.
В те годы у причалов Констанцского порта, где с верхней палубы высоких, как многоэтажные дома, грузовых пароходов или еще выше, с капитанского мостика, смотрели тебе в макушку моряки в незнакомых формах, с трубками в зубах, среди прочих кишевших здесь грузчиков в подвернутых штанах и широких шерстяных поясах, туго стягивавших им животы, можно было встретить рослого, широкоплечего мужчину со строгим лицом и грустными глазами. Так же, как и на других его собратьев по ремеслу, на нем был фартук из мешка и бумажный колпак — половина кулька из-под цемента. Работал он больше других, был честен и молчалив. Товарищи любили его и находили в нем только один недостаток: он никогда не смеялся. Когда они напивались и ходили в публичные дома, он тоже напивался и ходил вместе с ними, но на следующий день ни с кем не разговаривал. Если, бывало, к нему пристанет какой-нибудь болтун, он усмирит его одним ударом кулака. Случилось это раз или два, после чего грузчики научились оставлять его в покое.
В одном только месте Адам Жора говорил больше, чем обычно: в профсоюзе. Познаний у него было, правда, немного, зато он всегда безошибочно чувствовал, что справедливо и что несправедливо и громко, во всеуслышание заявлял об этом. В 1946 году он стал членом профсоюзного комитета портовых рабочих.
Случилось так, что за все это время он ни разу не встретился с Даниловыми, и ни он о них, ни они о нем ничего не знали. К тому же все трое так изменились за эти годы, что, пожалуй, не узнали бы друг друга, даже если бы и встретились.
XII
Это было весной 1950 года. Где-то высоко-высоко в небе проносились вереницы темно-сизых облаков. На западе догорала вечерняя заря, окрашивая небосклон в лимонно-желтые тона. Симион Данилов, как всегда теперь хмурый и угрюмый вышел из дому, неся в одной руке наполненный чем-то мешок, а в другой — тяжелые юфтяные сапоги. Он остановился на пороге и мрачно посмотрел вокруг, словно пытаясь что-то припомнить.
Симиону было теперь лет тридцать с лишним, но из-за вечного недовольного выражения лица, он казался старше своих лет. Его давно не бритые щеки обросли густой щетиной. Одет он был намеренно бедно, и его картуз был весь в пятнах. Симион все еще стоял на пороге и озирался по сторонам. Во дворе никого не было, кроме Евтея Данилова, который рубил хворост, склонившись над чурбаком.
Старик сильно сдал с тех пор как рабоче-крестьянская власть отобрала у него обе корчмы, устроив в одной из них Дом культуры и заняв другую под сельскую парторганизацию. Засилью Евтея в Даниловке настал конец. Его прижали налогами, обязательными поставками хлеба, вина, мяса, масла, а к тому же еще привлекли к суду за саботаж и продержали год в тюрьме. Все эти беды обрушились на него в 1948–1949 и начале 1950 года. Он сильно изменился: похудел, поседел, спал с лица, прежде могучие руки и жирный затылок высохли. В этом слабеньком старичке, который рубил себе хворост для печки, трудно было узнать прежнего Евтея Данилова: дородного, надутого, истуканоподобного, с густой бородой и гулким басом.
Симион его теперь презирал, но обходился с ним еще довольно сносно, зная, что у старика припрятано золото, хотя тот и отрицал это с отчаянным, исступленным упорством, даже когда они были вдвоем и никто их не слышал. «Ничего у меня нету!» — твердил Евтей жалобным голосом. Но золото у него было. Симион знал это и щадил старика.
— Кончил? — спросил он через плечо.
Евтей, который совсем оглох за последнее время, не расслышал. Из дома вышла Ульяна с котомкой и не глядя подала ее Симиону. Не то, чтобы она была сердита на мужа: она его просто не видела и словно повесила котомку на гвоздь.
— Бутылку положила? — спросил Симион, беря котомку и тоже не глядя на жену.
— Положила, — пробормотала Ульяна.
— Нда… — неопределенно произнес Симион, постоял еще немного, двинулся к воротам и вышел на улицу, захлопнув за собой калитку ногой.
Он не сказал, что уходит, а она не ответила ему: «Возвращайся скорей!» Он — это было уже давно — пробовал, уходя, говорить ей обычное «до свидания», но Ульяна неизменно молчала. Он понял, наконец, что она права. И в самом деле: разве они не были совершенно чужими друг другу? Говорили они только о самом необходимом. Летом спали порознь: Симион в сарае, в поле или на сеновале, Ульяна — в комнате. Теперь, когда было еще холодно, спали в одной кровати, но Ульяна старательно отодвигалась от него подальше. Когда он, бывало, возвращался домой пьяный и лез к жене, она безучастно терпела его ласки, а потом еще плотнее прижималась к стене.
Она даже не слышала, как захлопнулась калитка и, обойдя дом, облокотилась о новый, но уже почерневший забор и стала смотреть на сверкающее море, такое же лимонно-желтое, как вечернее небо. Пахло болотом, распускающейся листвой, клейкими почками вербы, землей, молодой травой; дул прохладный ветерок. Все это живительно подействовало на молодую женщину, заставило еще острее почувствовать избыток неиспользованных сил и свое полное одиночество. Делать в доме было нечего. Она долго простояла не двигаясь, вглядываясь в пустынную морскую даль.
Евтей продолжал рубить хворост.
— Много тебе еще осталось? — хрипло крикнула ему старуха.
Евтей не отвечал, грустно понурив голову: «Вот, — думалось ему, — был ты силен и богат, дом имел — полную чашу, детей, родню, друзей, имущество, дела… И вдруг, неизвестно как, ничего не осталось: слабенький, старенький и всего-то у тебя делов, что шататься из угла в угол…»
— Глянь-ка, Евтей, что за шум на улице? — крикнула старуха.
Старик воткнул топор в чурбан, с трудом выпрямился, от чего у него хрустнули колени, и послушно поплелся к воротам — посмотреть, что происходит на улице. Он долго смотрел на собравшийся народ, но никто его не замечал — в нем никто больше не нуждался. Умри он сегодня, никому до этого не было бы никакого дела. Ему захотелось выйти к ним, снова показать над ними свою власть, но даже гнев его был не тем, что раньше, когда под рукой всегда находились верные средства для того, чтобы заставить себя уважать. Гнев его теперь был какой-то трясущийся, ворчливый, старческий.
На улице стояли тяжелые грузовики. К ним отовсюду стекались люди в стеганных ватных куртках и резиновых сапогах или в измазанной смолой и рыбьей кровью рыбацкой одежде и юфтяных сапогах… Одни выходили из ближайших домов, другие — из соседних улиц, громко разговаривая, смеясь и перекликаясь:
— Косма! Николай! Сюда идите!
Все это были стройные, широкоплечие рыбаки с котомками за спинами, бородатые или бритые, здоровенные русые парни, которые прежде ловили рыбу на лодках Евтея Данилова, Фомы Карпа и других богатеев. Тогда они были тише. Теперь они кричали и смеялись: у них развязались языки.
«Ишь ты! — злобствовал про себя Евтей. — А Емельян-то Романов, который у меня раньше работал, так же как и старший брат его, что утоп, — поперек себя толще стал!»
Годы сказались на Емельяне. Седина коснулась волос и он был сер, как матерый волк, но выглядел молодцом: вздернутый нос, картуз набекрень. Сытое, круглое лицо, серые, со стальным отливом глаза.
— Ермолай! — гаркнул он, хватая за руку стоявшего рядом с ним бородача.
Тот, к кому обращался Емельян, был так дюж, что, несмотря на хороший рост, казался почти квадратным. Его красная физиономия, с маленькими, голубыми, смеющимися глазами весело улыбалась: