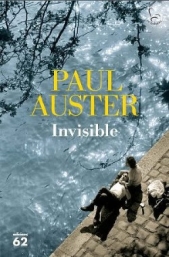Невидимый

Невидимый читать книгу онлайн
Ярослав Гавличек (1896–1943) — крупный чешский прозаик 30—40-х годов, мастер психологического портрета. Роман «Невидимый» (1937) — первое произведение писателя, выходящее на русском языке, — значительное социально-философское полотно, повествующее об истории распада и вырождения семьи фабриканта Хайна.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ну как, Соня? — весело спросил я.
Она изо всех сил обхватила меня за шею и выдохнула:
— Ты!..
Я понял. Это скрепляло наш союз. Соня задумала поразить нашей короткостью и отца, и Кунца, и тетушку. Я ничего не имел против. Наоборот, был очень приятно удивлен. И наклонился к ней с таким же важным и таинственным видом:
— Значит — «ты»?
Она дважды кивнула.
И мы поцеловались очень горячо.
Хайн обеими руками жал мою руку, растроганно и торжественно произносил слова приветствия. Мы стояли в холле. Пять закрытых белых массивных дверей, похожих на алтари в праздник тела господня, словно задавали мне загадку: «А ну, отгадай, за которыми из нас ждет тебя торжественный ужин?»
Почти все комнаты виллы выходили в этот холл. Впоследствии, когда я на собственном опыте убедился в чудовищном неудобстве такого устройства, мне часто вспоминались эти первые минуты на пороге воображаемого рая.
В столовой мне представили Кунца. Это был высокий, широкоплечий старик с густыми, еще черными бровями и длинной, холеной, начинавшей седеть бородой. Я подметил, что при ходьбе он ставит ступни параллельно и двигается с медвежьей неуклюжестью. Видно, красавец педагог страдал плоскостопием. Мне тотчас бросилось в глаза, что директор школы и фабрикант как бы поменялись ролями. Если б я не знал Хайна, то принял бы Кунца за могущественного промышленника.
Он и вел себя как подлинный хозяин.
— Сердечно приветствую вас, молодой человек! — Кунц благосклонно поклонился и повел меня к креслу, в котором сидела тетка Хайна. Обращения «молодой человек» было достаточно, чтоб навсегда отвратить меня от директора.
Я очутился перед старухой, восседавшей в своем кресле словно монарх на троне. Она не соизволила произвести ни одного движения, которое можно было бы принять за приветственное. На ней было какое-то черное, ниспадающее свободными складками одеяние, придававшее еще больше достоинства ее высокой, костлявой фигуре. Лицо ее было почти квадратным, на висках лепились белые кудряшки, жесткие, как проволока. На этом лимонно-желтом лице, окруженные веером морщин, выступали огромные, темные, выпуклые глаза. Шею ее охватывала бархотка, а под нею, в маленьком вырезе, вздувался и дрожал мешок дряблой кожи, посередине которого наискось проходила пульсирующая синяя жила.
Я приложился к ее холодной руке. В другой руке она сжимала своего рода скипетр — тонкую и длинную трость, к верхнему концу которой был привязан черный муаровый бант. Бант был похож на чудовищную мрачную бабочку, насаженную на булавку.
— Добро пожаловать! — прокаркала старуха. — Так вот он какой, жених нашей Сони. Поди, поди сюда, стань-ка возле него, хочу поглядеть, как оно вам пристало, рядышком-то…
Слова эти, по-видимому, были необычайно остроумны, потому что педагог погладил свою рекламную бороду и легонько рассмеялся.
— Это моя дорогая тетя, — торжественно произнес Хайн. — Она стала мне матерью, когда я потерял свою, а позднее заменила мать и Соне. Мы, три старика, да Соня — одна семья, в которой установились довольно сложные отношения. Моего друга Кунца вы могли бы принять за гостя — и ошиблись бы. Он член нашей семьи, хотя и не живет с нами.
— Милый Хуго, — возразил Кунц на такое признание в любви, — ведь это может произвести нехорошее впечатление, когда ты столь откровенно указываешь: вот человек, чье присутствие подчас в тягость…
Хайн пригласил всех к столу.
У стульев, обитых выцветшим красным плюшем, были слишком высокие спинки. Они годились для чего угодно, только не для того, чтоб сидеть на них. На каждом предмете обстановки красовалась какая-нибудь ненужная вязаная салфеточка. Зеркало увенчивало подобие шапочки из бумажных цветов. Возле двери пузатилась горка с серебром, на окнах висели гардины, поглощавшие свет и пыль. Дело старухиных лап, думал я. По желанию этой желтой мумии — декорация прошлого века. Ее величество, кажется, куда более зловеще, чем я предполагал. Нет, пожалуй, мы с ней вряд ли полюбим друг друга!
Появился Филип с суповой миской. Он двигался неловко — роль лакея, видно, ему не удавалась. Филип был миловидный подросток с девичьими голубыми глазами под сросшимися бровями и с курчавой шевелюрой. Он являл собой прямую противоположность своей сестре Кати, которая держалась в высшей степени уверенно и непринужденно.
Смотреть на «дорогую тетю» за едой было не очень приятно. Ее выпученные глаза грозили вывалиться на тарелку. Отхлебнув две ложки, она отодвинула суп. К мясу едва притронулась, поковыряла картошку. Позднее Соня объяснила мне ее поведение. Старуха необыкновенно упряма. Она одна занимает весь первый этаж. И вбила себе в голову, что не нуждается ни в чьей помощи. Сама себе стряпает, сама убирает. Никогда не ест за общим столом с племянником и внучкой. Приняв сегодня приглашение к ужину, она далеко отступила от своих правил. И слишком уронила бы свое достоинство, если б стала здесь есть.
Но благодаря этому у нее оставалось достаточно времени для разговоров. Чаще всего она обращалась ко мне, хотя я вовсе не домогался такой чести.
— Сознайтесь-ка, почему вы не приезжали раньше? — с упреком говорила старуха. — Вам бы следовало представиться еще полгода назад. — И чтоб смягчить тон своих слов, добавила: — Ведь это я вас приглашала.
Я ее отлично понял. Она желала увидеть меня до того, как будет сказано решающее слово.
— Я бы хотела, чтоб мы стали друзьями, — строго заключила она.
Ясно, ясно — это не просьба, это угроза. Смысл ее был такой: или старайся угодить мне — или!..
Служа мишенью столь сладостных намеков, я несколько скис.
— Петя, Петя, — тревожно шепнула мне Соня, — что-то ты сегодня слишком серьезный!
Хайн расслышал это «ты», удивленно поднял брови, но тотчас снисходительно улыбнулся. Взгляд его с любопытством задержался на новом колечке у дочери.
Филип долго нащупывал локтем дверную ручку, пролез в конце концов в полуоткрывшуюся дверь и пошел по ковру мелкими, осторожненькими шагами. На подносе в его руках угрожающе звенели высокие стаканы для пива.
— Эх ты, — добродушно усмехнулся Хайн. — Несешь, будто динамит!
Кунц, беззвучно похохатывая, откинулся назад вместе со стулом.
Первый стакан директор поднял бравым жестом, многозначительно возвел очи к потолку, потом обвел взглядом старуху, Хайна, Соню, удостоив под конец и меня, после чего снова поднял стакан. Хайн встал, словно загипнотизированный. Загремели отодвигаемые стулья. Все протягивали свои стаканы к старухе.
Кунц произнес тост.
Ровно в половине десятого тетка удалилась в свою берлогу. Директор остался.
Хайн говорил о заводе. Кунц о патриотизме. Это был его конек. Есенице расположено в небезопасной области. Три четверти населения, а может, и больше — немцы. Господин директор школы был одновременно старостой местной сокольской [6] организации, библиотекарем «Беседы» [7] и деятельным членом всех прочих основных чешских обществ. Я скоро догадался, какова роль Хайна в этих благородных трудах: он был карманом, Кунц — рукой. У Хайна были деньги, Кунц их раздавал.
Я отлично понимал испытующие взгляды, которые бросал на меня педагог. В них был вопрос: «В моем ли ты вкусе, малый? С тобой приходит к нам новый режим. Каким-то он будет?» Мне было бы нетрудно дать ему точный ответ. Я всегда держался подальше от всякой политики. Национализм, социализм — до всего этого мне не было никакого дела. Я понимал одно: собственное преуспеяние. Однако в данный момент выгоднее было не раскрывать своих карт и многозначительно улыбаться.
Господин директор доблестно пил. Филип то и дело бегал в погреб за новой бутылкой. Он только что, в очередной раз, вошел в столовую, неся, как и подобает, бутылку на подносе, который судорожно сжимал обеими руками. Дверь он открывал локтем, а закрывал ногой, но на этот раз забыл это сделать, и тогда случилось нечто такое, что нарушило мое приятное спокойствие. Следом за Филипом вошел тот самый толстяк, который промелькнул на пороге дома, когда я впервые переступал его.