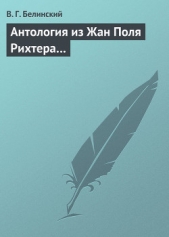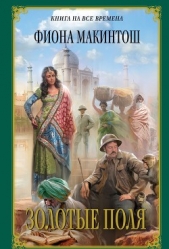Чернозёмные поля

Чернозёмные поля читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так судил Суровцов людей сверхъестественного идеализма и их бесплодные, ничем не вызываемые нравственные мученья. Про себя и свои обязанности к обществу он особенно часто беседовал с юным Зыковым, который по дикости своих привычек и по исключительности своего направления не посещал почти никого из соседей, кроме Суровцова да Коптевых, куда его затащил Суровцов. Хотя направление Суровцова было далеко не по нутру фанатичной природе Зыкова, который его называл «благодушным дилетантом» и «утончённым индифферентистом», однако Зыков видел ясно, что Суровцов был человеком мысли и правил, что в его обществе можно было услышать недюжинное слово и сказать своё серьёзное слово без опасения пошлых толкований, глумлений и изумлений. Надя обыкновенно молча присутствовала при споре Зыкова с её Анатолием. Зыков чуть не ежедневно бывал у Коптевых, во-первых, потому, что Суровцов проводил у них все свободные часы, а во-вторых, потому, что этому робкому дикарю необыкновенно понравилась непринуждённая простота и полная свобода обращения коптевских барышень; никто его не занимал, никто не считал своею обязанностью торчать против гостя в кресле, не сводя с него глаз, не спуская его с места, не давая ему вздохнуть от немолчной, хотя с трудом выжимаемой беседы, как это обыкновенно делалось у Каншиных и других шишовцев, знающих приличия получше неблаговоспитанных Коптевых.
Конфузливые люди делаются необыкновенно навязчивыми с теми, перед кем они перестают конфузиться; они прилепляются к ним с неодолимою силою, как утопающие, окружённые враждебною стихиею, крепко обхватывают единственный обломок корабля, подающий им надежду на спасение.
— С вами мы никогда не сойдёмся! — смеясь, уверял Зыкова Суровцов. — Вспомните мудрое разделение людей, которое сделал Гейне по поводу Берне. Вы иудей, человек бесплотной мысли, фанатической обязанности. Я — эллин, человек образов, чувств, жизни. Я никогда не забуду себя и считал бы это забвение первым грехом. Самая строгая евангельская мораль требует от меня только того, чтобы я любил не одного себя, а и других. Я считаю своею первою обязанностью жить всеми своими силами, извлекать из жизни всё, что приятно и полезно каждой моей потребности. Словом, я для себя на первом плане. Это мой главный тезис. Я не только не зверь, но и человек; вот у меня поэтому потребности не только животные, но и человеческие. У меня дух пытливости, нравственное страданье и нравственное удовлетворение. Я не только индивидуум, человек, я ещё род, человечество. Поэтому у меня потребности не только мои личные, но ещё и общечеловеческие. Однако всё ж-таки я менее человеческий род, чем человеческий индивидуум. Простительно же для меня, не забывая интересов своего рода, прежде всего думать об Анатолии Суровцове. Этого даже требует справедливость, ибо если со всех Анатолиев, Иванов и Петров взять в пользу человечества хоть по ниточке, то выйдет нарядная рубашка, а о собственной рубашке Анатолия Суровцова, кроме него самого, некому думать. Поэтому, — развивал далее Суровцов свою мысль, — я не принадлежу к числу людей, относящихся с болезненною тревожностью к общественным явлениям и к общественным обязанностям. Я с спокойным удовольствием работаю на пользу общества, хотя сознаю, как ничтожна эта польза в сравнении с громадностью общественных потребностей и задач. Тайна моего спокойствия — твёрдый, естественный взгляд на вещи; можете обзывать этот взгляд эпикурейским, оптимистическим, если хотите — олимпийским и каким вам угодно; в нём действительно есть много эпикурейского, только не в пошлом смысле, а в возвышенном философском смысле, какой придавали этому направлению его основатели. Да, повторяю вам, я твёрд и спокоен, как Зевес на Олимпе. Каульбах изобразил его отлично в своём «Веке Гомера». Непоколебимая, невозмутимая, властительная мощь! Я знаю, что мир полон несовершенств, и что смысл мировой жизни есть развитие всех своих сил, всех «потенций», говоря языком школы. Если бы не над чем было биться, работать, незачем было бы и существовать. Совершенное — значит, законченное, а законченное — значит, переставшее развиваться, жить. Из-за чего же мне возмущаться тем. что мир живёт и растёт, что человечество совершенствуется и развивается? Если бы я был средневековый монах или поклонник Руссо, я бы мог оплакивать потерю невинного младенчества мира, того золотого века, когда тигр лобызал овечку, люди пользовались бессмертием и жили без труда и печали в садах, наполненных сладкими плодами. Но я — суровый натуралист и не могу забыть, как бы ни старался, что вместо диноплотериев и мегалотериев, пещерных людей и обезьяноподобных ихтиофагов на земном шаре живут теперь благовоспитанные люди с тонкими нервами, которые не только не пожирают друг друга сырьём, но даже и говядину едят не иначе, как хорошо изжаренную. И прочитывая в своих семейных бумагах, как мои деды так ещё недавно продавали живых людей стадами и поштучно, как запарывали их и ссылали в Сибирь, не возбуждая ни малейшего удивления, сожаления или вмешательства общества, я не могу не признавать своего нетерпения и своей требовательности относительно нравственного совершенства общества крайне неосновательными и малодушными. Согласитесь, что есть же маленькая разница между Салтычихой и деятелями девятнадцатого февраля? Жадность в нравственных требованиях, положим, не грех, но она делается вредным заблуждением, если обращается в источник страданья, раздражения, недовольств. В итоге она лишает общество полезной помощи множества людей. Здравое настроение предохранило бы их от несправедливости к людям, он несправедливости к самим себе. Мало ли таких нравственных натур бесплодно сожгли себя этими болезненно преувеличенными взглядами? Мало ли других, которые пришли в отчаяние от мнимой непосильности им и мнимой безнадёжности своей общественной задачи! Всё это неправда. Всё обстроит благополучно, всё идёт своим естественным путём, если судить мир, как мир, как реальное существование во времени и пространстве, а не как баснословные сады звонкогласых гесперид в Феогонии Гесиода. Укротите немножко ваше сомнение; вы не Прометей и не Девкалион. Вы не обратите камней в людей. Вы — один человек, и в этом вся тайна. Требуйте от себя, как от одного. Судите себя, как одного. Я сужу себя и требую от себя именно так, и оттого спокоен, потому что сознаю, что я делаю довольно для одного бренного и грешного созданья. Пусть другие работают за себя и болеют за себя; я думаю, что наше образование, наша наука должны привести нас всех понемногу к этому выводу. Что за нелепое и противоестественное явление в мире — целое общество, целый век в болезнях отрицания, неверия, отчаяния, презрения и вражды к самим себе! Это мыслимо, как момент, как переходная борьба, но человечество должно отделываться скорее от этой психической болезни, как человек старается излечиться от болезни тела. Почему греки, задавленные гораздо более нашего природою, менее знавшие, более суеверные, не развившие такого опыта и таких всесторонних сил, могли жить на земле, довольные и спокойные? Вся наша хвалёная цивилизация и наука не стоили бы выеденного яйца, если бы они были не в силах привести нас к тому, к чему умели прийти люди за две тысячи лет до нас, в младенческие века человечества? Нет, я не верю этому, а верю в нашу науку. Её пора придёт, и мы все станем такими же олимпийцами, только на более разумных и более широких началах. Если не любить мира, не верить в мир, то нужно сделаться буддистом, нужно стремиться исчезнуть «в пучине Нирваны», этого хаотического ничтожества, или, по крайней мере, распинать свою плоть со «страстями и похотьми в сей юдоли плача и воздыхания», в сём месте временной ссылки, как делали это более последовательные философы фиваидких обителей. Не думайте, однако, чтобы я проповедовал теорию доктора Панглосса: всё идёт к лучшему в лучшем из миров. О нет! Я ведь особенно напираю на то, что я не фантазёр. Скверного много, ужас, как много; и скверное для меня очень скверно; я его не терплю, может быть, более многих других. Но я его считаю естественным, неизбежным, в порядке вещей. Оно для меня так же законно, как законна борьба против нег, и я считаю за особенную честь, что принадлежу к числу борцов против него. Только я так же мало претендую на существование безнравственных стихий человечества, как на град, на морозы, на засухи. Я стараюсь предохранить от них свои посевы, как могу, минутами, конечно, раздражаюсь против их неистовств, против опустошений, ими производимых, но всё-таки признаю их естественным явлением и сживаюсь с ними спокойно, как со всею природою вообще. Зло мира не застанет меня расквашенным, раздавленным своею собственною недодуманностью и малодушием. Нет, я борюсь с ним, не теряя ясного миросозерцания, не теряя власти над своими боевыми силами, и я думаю, что чрез это я враг злу опаснее мечтателей и ипохондриков. Если хотите, я в этом смысле маленький Бисмарк, маленький железный граф про свой обиход.