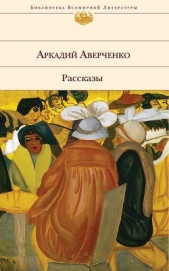Смертники

Смертники читать книгу онлайн
Николай Фридрихович Олигер (1882-1919) — русский прозаик и драматург. Повесть «Смертники».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Убили!
Он не совсем понимает, почему казни обставляются с такой странной торжественностью. Ночью, вот, пришло столько народу, что заняли весь коридор, — и солдаты, и какие-то чиновники, может быть, важные, и все это только для того, чтобы поодиночке убить четверых, которые даже ничем не могут защитить себя.
Должно быть, просто трусы — и боятся.
Хотя можно бы и совсем безопасно. Например, просунуть в форточку винтовку и пристрелить. Или насыпать мышьяку в бачок с борщом.
Жамочка напряженно трет свой лоб ладонью, — низкий лоб, заросший волосами до самых бровей. С ночи казни он начал думать, — и это дается ему трудно. Думы рождаются такие неуклюжие, громоздкие, только затемняют и путают, не объясняя ничего.
Все непонятно, начиная с того, что Ленчицкого увели и удавили, а его вот зачем-то оставили.
Жизни своей Жамочке не жалко. У него и воспоминания о прожитой жизни такие же скудные и неуклюжие, как думы о настоящем. Но очень обидно, что увели Ленчицкого. Просил ведь чтобы вместе.
Жамочка садится, поджав ноги. Глаза у него воспалились от бессонной ночи, все тело ноет и кажется таким тяжелым. Жамочка чувствует, что он вдруг как-то постарел и, пожалуй, если бы даже Ленчицкий и вернулся теперь назад с того света, то жизнь от этого не сделалась бы лучше. Все так непонятно кругом и так нехорошо, нескладно.
Хорошо было бы расспросить кого-нибудь из тех, кто все знает. Телеграфиста или лохматого жиденка. И по их ответам распределить мысли, привести все в порядок.
Но Жамочке стыдно. Раньше, при Ленчицком, он переговаривался с другими о самых зазорных вещах, и это было ничего, хорошо. А теперь стыдно. Потому что теперь Жамочке интересно совсем другое, важное, а не зазорное, как прежде. Жиденок, кроме того, злой. Сейчас кричал на Бурикова. Разве спросить телеграфиста.
Жамочка прислушался.
Слышно было, как переговаривался со своим обычным собеседником телеграфист.
— Это — унижение, Абрам! Даже угрожая, вы все-таки становитесь с ними на равную ногу. Вы должны презирать их!
В ответ кричит из своей форточки Абрам, и голос его разносится по коридору звонко и буйно, падает во все углы, отражаясь от сводов.
— Презирать? Ну, а если я никого не презираю, господин чиновник? Что вы на это скажете? А я скажу вам, что меня самого презирали достаточно, и потому я убедился, как это глупо. Что? Когда старую клячу бьют кнутом, она, может быть, тоже презирает того, кто ее бьет. И ей от этого легче? И тому, кто бьет, от этого хуже? Он бьет себе и бьет и заставляет старую гордую клячу делать то, что ему нужно. Слушайте, до сих пор внутри у меня было совсем пусто, а теперь там огонь. Я хотел бы, чтобы этот огонь вырвался наружу и спалил всех, когда меня повесят.
Телеграфист хочет возразить, но долго шевелит беззвучно губами, подбирая нужные слова. И когда слова готовы — мысль уже охладела, отошла в сторону. Не хочется говорить. Абрам продолжает, не дождавшись ответа.
— Презрение сидит совсем рядышком со страхом. Ого! Во время революции всегда сначала презирают, а потом боятся. А когда раздавят, опять начинают презирать. Но я таки не боюсь. Я ненавижу. И смерть ненавижу, а не боюсь ее. Разве можно бояться, когда это гадость, отвратительное насилие, позор человеческий?
— Но все же умрем, Абрам! — тускло сказал телеграфист. — И с ненавистью. Будем верить в других. Для нас кончено.
— А как я буду верить в других, когда я не верю и в себя? Придут после нас еще тысячи людей и будут делать еще тысячи глупостей. Э, черт! И вы в самом деле думаете, что через сто или тысячу, или миллион лет будут жить на земле лучше, чем теперь. Земля будет плоха, пока будут на ней люди, — самые скверные, самые трусливые и самые подлые из зверей. Что, после такой ночи вы еще верите в добро?
— Одно пятно не марает всех. Есть другие.
— Ну, так чего же они молчат, эти другие? Почему они не выползут из своих нор на площадь, на солнце, эти другие? Почему они не разрывают на себе одежд и не посыпают головы пеплом и не кричат, как исступленные, что нельзя больше переносить такого позора? Почему они молчат и прячутся? А потому, что им все равно! Разве на их жирные шеи надевают петлю? И еще. Не палач вешает. Все вешают, — жирные, сытые, спокойные, и у всех руки выпачканы в нашей крови. И вы хотите, чтобы они стали лучше только потому, что вы будете печатать умные книжки и жужжать им в уши насчет того, что худое — худо, а хорошее — хорошо? Ну, нет, я думаю. Нужно плевать им прямо в рожи, нужно бить их и калечить, нужно наполнить ужасом их душонки. Вот тогда они испугаются, съежатся, не будут занимать на земле так много места, и тогда, может быть, земля, действительно, станет лучше. Но всегда нужно будет держать над ними кнут.
Тряслась и металась в тесной дыре форточки бледная всклоченная голова. Кипели пузырьки слюны на губах, и русый надзиратель, прохаживаясь по коридору, старался держаться дальше от этой головы. Не совсем понимал, о чем говорят, но все-таки сочувственно кивал бородой, когда тихо и невнятно возражал телеграфист.
— Вы знали, на что вы идете, Абрам! И я согласен с вами, что палач в сюртуке хуже заплечного мастера в красной рубахе. Но я все-таки верю, что люди исправятся. Они не кричат сейчас совсем не потому, что они равнодушны. Они просто слабы, бессильны. Время вдохнет в них силу.
— Верьте, если хотите, верьте! А пока нам будут выворачивать пальцами глаза и ломать ребра, если мы не совсем охотно идем на виселицу. Вот что! Я не хочу доставить им это последнее торжество. И думаю, что мой товарищ тоже не хочет. Об этом нельзя говорить громко, но я не хочу!
Жамочка прижался лицом к своей форточке и слушает, стараясь не проронить ни одного слова. Но говорят, кажется, совсем не о том, о чем ему нужно. Нужно бы с самого начала, с корня. Что такое человек и зачем он. Если только хорошенько понять это, то, пожалуй, тогда уже можно было бы понять и все остальное.
Напротив, в камере под номером пятым — пусто. Иванченку после казней так и не привели обратно, должно быть, поместили где-нибудь в другом конце тюрьмы, и его место здесь еще никем не занято. Стало быть, всего осталось в малом коридоре, — если даже помешанный еще жив, — восемь человек. Хватит на две ночи. Или, может быть, покончат со всеми разом, кто остался? Лучше бы разом.
Заметил отсутствие Иванченки и Абрам, Кричит телеграфисту:
— Радуйтесь! Все-таки у них есть маленький стыд. Убрали с наших глаз палача. Понимаете?
Русый сказал:
— На кандальном коридоре он теперь.
Но когда Абрам попытался было расспросить его о подробностях казни, отмалчивался и качал головой. Потом сказал коротко:
— Ничего не знаю. Не видел.
Однакоже, заметно было по лицу и по тону голоса, что знает и видел многое.
Телеграфист сказал русому под вечер, перед самой сменой:
— Мне очень хотелось бы отблагодарить вас чем-нибудь за то, что вы сделали для столяра. Только у меня ничего нет, — и деньги все равно не позволят передать. Да я и знаю, что вы не ради денег... Хотите, я подарю вам на память свои книжки? Книжки и учебники? Это самое дорогое для меня. После моей смерти возьмите и сохраните. Будете помнить, что дал с любовью.
Русый не соглашался.
— Чего там... Ведь и неизвестно еще… Может, Бог даст, и вам самим пригодится... А у меня все равно ребятишки порвут только.
— Самое дорогое! — жалобно повторил телеграфист. — Больше ничего нет.
Очень был озабочен судьбой своих книжек. Надеялся, что надзиратель будет доволен подарком, но тот даже не понял. И телеграфист глубоко и горько почувствовал свое полное, унизительное бессилие. Сел в темный угол и заплакал детскими горячими слезами. Но плакал потихоньку, чтобы не заметил бродяга.
А бродяга усердно занимался работой, которая представилась заглянувшему в камеру русому совсем бессмысленной и ненужной: чинил рубаху. Аккуратно приладил заплату и обшивал ее мелкими, ровными стежками, чтобы держалась как можно прочнее. И ворчал на темноту, которая мешала сделать работу до конца так старательно и чисто, как хотелось.