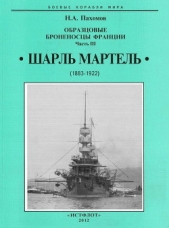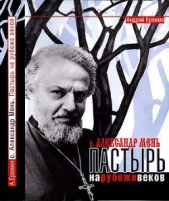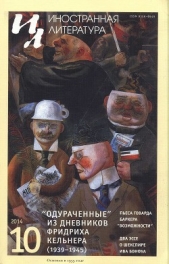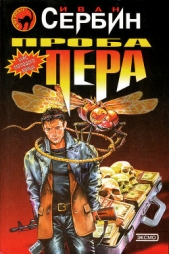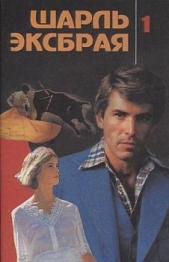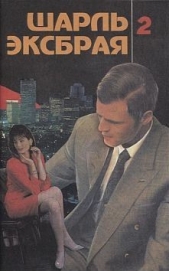Слова

Слова читать книгу онлайн
В детстве Сартр насочинял себе немало ролей, одна из которых — писатель. В автобиографической повеести «Слова» он вспоминает, что в библиотеке его «забавляли задумчивые дамы, скользившие от полке к полке в тщетных поисках автора, который насытил бы их голод; они и не могли его найти, ведь им был я — мальчик, путавшийся у них под ногами, а они не смотрели в мою сторону». Как ни странно, но эта выдумка оказалась пророческой...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вот я иду по крыше, охваченный пламенем, неся на руках бесчувственную женщину; внизу кричит толпа; сомнений нет — еще минута, и дом рухнет. В это мгновение я произносил сакраментальные слова: «Продолжение следует». «Что ты там бормочешь?» — спрашивала мать. Я отвечал уклончиво: «Жду, что будет дальше». Я и в самом деле засыпал посреди опасностей, в самой восхитительной тревоге. На другой вечер, в назначенный час, я опять переносился на свою крышу, в огонь пожара, навстречу верной смерти. Вдруг мне в глаза бросалась водосточная труба, которую я не заметил накануне. Господи, спасены! Но как уцепиться за трубу, не выпустив драгоценной ноши? К счастью, молодая женщина приходила в чувство, я взваливал ее на спину, она обвивала руками мою шею. Нет! Поразмыслив, я снова погружал ее в обморок: как ни мала была ее роль в собственном спасении, она уменьшала мои заслуги. По счастливому совпадению, у моих ног вдруг оказывалась веревка, я накрепко привязывал бедную жертву к ее спасителю, остальное было делом минуты. Отцы города — мэр, начальник полиции, брандмейстер — обнимали меня, целовали, награждали медалью, я терял уверенность в себе, не знал, что с собой делать дальше: объятия этих именитых граждан слишком смахивали на объятия деда. Я зачеркивал все, начинал сначала: ночь, молоденькая девушка зовет на помощь, я бросаюсь в гущу драки… Продолжение следует. Я рисковал жизнью ради великой минуты, которая должна была превратить зверька, рожденного случаем, в посланца провидения, но чувствовал, что мне не пережить своей победы, и был рад возможности отложить ее на завтра.
Не странно ли, что маленький школяр, обреченный духовному сану, предавался мечтам головореза? Неужели я никогда не мечтал стать врачом-героем, спасающим своих сограждан от бубонной чумы или холеры? Покаюсь — никогда. Меж тем я не был ни кровожадным, ни воинственным, и не моя вина в том, что рождающийся век настроил меня на эпический лад. Разгромленная Франция кишела воображаемыми героями, подвиги которых врачевали ее самолюбие. За восемь лет до моего рождения ростановский Сирано де Бержерак «разорвал тишину призывом боевой трубы». Чуть позже гордый и страдающий Орленок своим появлением заставил забыть о Фашоде [3]. В 1912 году я понятия не имел об этих героических персонажах, но неустанно общался с их эпигонами: я обожал Сирано уголовников — Арсена Люпена, не подозревая, что своей исполинской силой, насмешливой отвагой, истинно французским складом ума он был обязан тому, что в 1870 году мы сели в лужу. Национальная агрессивность и дух реванша превращали всех детей в мстителей. Я стал мстителем, как и все: завороженный зубоскальством и рисовкой — несносными пороками побежденных, — я высмеивал своих врагов, прежде чем выпустить им кишки. Но войны наводили на меня скуку; мне нравились незлобивые немцы, приходившие в гости к деду, и меня волновали только несправедливости в частной жизни. В моем сердце, лишенном ненависти, коллективные веяния претерпевали изменения — я вскармливал ими свой индивидуальный героизм. Но так или иначе на мне лежало клеймо — я был внуком поражения, потому-то я так нелепо ошибся и в наш железный век принял жизнь за эпопею. Убежденный материалист, я до конца дней буду искупать своим эпическим идеализмом оскорбление, которого не испытал, стыд, которого не изведал, утрату двух провинций, которые нам давным-давно возвращены.
Буржуа минувшего столетия всю жизнь хранили воспоминание о первом посещении театра, и их современники писатели считали своим долгом увековечить эту минуту во всех подробностях. Вот поднимается занавес, и детям кажется, что они попали во дворец. Золото, пурпур, огни, румяна, патетика и бутафория обожествляют все — даже преступления. Сцена воскрешает перед ними аристократию, которую их собственные деды отправили на тот свет. В антрактах ярусы зрительного зала наглядно демонстрируют детям общественную иерархию — в ложах им показывают обнаженные плечи и живых дворян. Они возвращаются домой потрясенные, раскисшие, исподволь подготовленные к социальному церемониалу, к тому, чтобы стать Жюлями Фаврами, Жюлями Ферри, Жюлями Греви. Но пусть кто-нибудь из моих сверстников назовет день своего первого знакомства с кинематографом. Мы не заметили, как вступили в новый век, век, не имеющий традиций, которому суждено было перещеголять своими дурными манерами все минувшие эпохи, и новое искусство, искусство простонародья, предвосхищало этот век варварства. Родившееся «на дне», зачисленное начальством в разряд ярмарочных увеселений, оно держалось простецки, шокируя солидных граждан; это было развлечение для женщин и детей. Мы с матерью его обожали, но никогда об этом не думали и не говорили — кто станет говорить о хлебе, когда в нем нет нехватки? Мы осознали существование кинематографа лишь тогда, когда он уже давным-давно стал нашей насущной потребностью.
В дождливую погоду Анн-Мари спрашивала меня, куда бы я хотел пойти; мы долго колебались между цирком, театром Шатле, Павильоном электричества и Паноптикумом; в последнюю минуту мы с продуманной небрежностью решали отправиться в кино. Однако стоило нам открыть парадную дверь, как на пороге своего кабинета появлялся Шарль: «Куда вы, дети?» — «В синематограф», — отвечала мать. Дед хмурился, мать торопливо добавляла: «Это в „Пантеоне“, в двух шагах от дома, только перейти улицу Суффло». Дед отпускал нас, пожав плечами. В ближайший четверг он говорил господину Симонно: «Вы человек разумный, Симонно, ну что вы на это скажете — дочь водит моего внука в кино!» И господин Симонно отвечал примирительно: «Сам я там никогда не был, но жена иногда ходит».
Мы обычно приходили после начала сеанса. Спотыкаясь, ощупью брели за билетершей. Я чувствовал себя заговорщиком: над нашей головой зал пронизывал сноп белых лучей, в нем плясала пыль, табачный дым; пианино ржало, на стенах светились фиолетовые груши, у меня перехватывало дыхание от запаха лака и дезинфекции. Запах и плоды этого мрака, населенного людьми, смешивались в моих ощущениях: я сосал фиолетовые лампочки, ощущал во рту их кисловатый привкус. Обтерев спиной чужие колени, я взбирался на скрипучий стул, мать подкладывала под меня сложенное одеяло, чтобы мне было виднее, и только тогда я бросал взгляд на экран, на струящееся меловое пятно, на мигающие пейзажи, иссеченные ливнями — дождь лил не переставая, даже при самом ярком солнце, даже в комнатах; иногда огненный астероид перелетал вдруг через гостиную какой-нибудь баронессы, на лице которой не выражалось при этом ни малейшего удивления. Мне нравился этот дождь, эта безостановочная суета, тревожившая стену. Тапер брал первые аккорды «Фингаловой пещеры», и всем становилось ясно, что с минуты на минуту появится преступник — баронесса была ни жива, ни мертва от страха. Но вместо ее прекрасного, в черных подтеках лица появлялась вдруг лиловая надпись: «Конец первой части». Мгновеннное отрезвление. Свет. Где я? В школе? В присутственном месте? Никаких украшений — ряды откидных стульев, с нижней стороны которых видны пружины; стены, выкрашенные охрой; пол в плевках и окурках. Зал наполнялся глухим шумом, зрители заново обретали дар речи, билетерша громко предлагала леденцы, мать покупала мне конфеты, я совал их в рот, на языке таяли фиолетовые лампочки. Люди протирали глаза, каждый впервые замечал соседей. Солдаты, няньки с ближних улиц; какой-то костлявый старик шикает — простоволосые фабричные работницы слишком громко смеются. Все это люди не нашего круга; к счастью, кое-где на почтительном расстоянии друг от друга над этим партером голов успокоительно колышутся пышные шляпы.
Моему покойному отцу, моему деду — завсегдатаям лож первого яруса — социальная иерархия театра привила вкус к определенному церемониалу: в местах большого скопления людей необходимо воздвигать между ними ритуальные барьеры, не то они перережут друг другу горло. Кинематограф доказывал нечто прямо противоположное: казалось, не празднество, а скорее бедствие объединяет эту на диво разношерстную толпу. Этикет отмер, и обнажилась наконец подлинная связь людей, их спаянность. Я возненавидел церемонии, я обожал толпу. Какие только толпы ни пришлось мне видеть на моем веку, но эту обнаженность, это безотказное общение каждого со всеми, этот сон наяву, это смутное сознание того, что быть человеком опасно, мне пришлось наблюдать потом только однажды — в 1940 году в лагере для военнопленных XII Д.