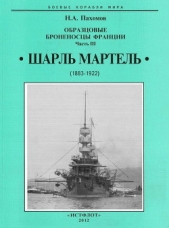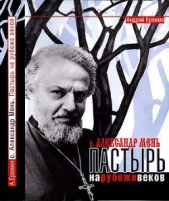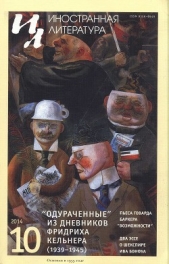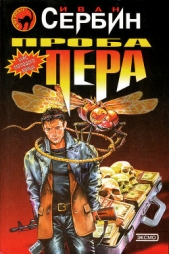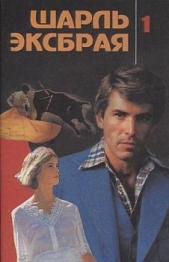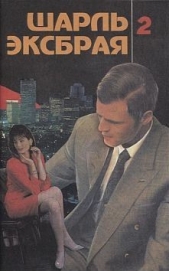Слова

Слова читать книгу онлайн
В детстве Сартр насочинял себе немало ролей, одна из которых — писатель. В автобиографической повеести «Слова» он вспоминает, что в библиотеке его «забавляли задумчивые дамы, скользившие от полке к полке в тщетных поисках автора, который насытил бы их голод; они и не могли его найти, ведь им был я — мальчик, путавшийся у них под ногами, а они не смотрели в мою сторону». Как ни странно, но эта выдумка оказалась пророческой...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я рассказал историю моего несостоявшегося призвания: я нуждался в боге, мне его дали, и я его принял, не поняв, что его-то я и искал. Не пустив корней в моем сердце, он некоторое время прозябал там, потом зачах. Теперь, когда меня спрашивают о нем, я добродушно посмеиваюсь, как старый волокита, встретивший былую красавицу: «Пятьдесят лет назад, не будь этого недоразумения, ошибки, нелепой случайности, которая отдалила нас друг от друга, у нас мог бы быть роман».
Но романа не получилось. Меж тем дела мои становились все плачевнее. Деда раздражали мои длинные локоны. «Это мальчик, — говорил он Анн-Мари, — а ты из него делаешь девочку. Не хочу, чтобы мой внук вырос мокрой курицей». Анн-Мари не сдавалась: по-моему, ей и в самом деле хотелось, чтобы я был девочкой. Каким счастьем было бы для нее воскресить в этой девочке свое собственное печальное детство и сделать его счастливым. Но небо не услышало ее молитв, и она нашла другой выход: мой пол, как у ангелов, не был четко обозначен, но в нем проглядывала женственность. Ласковая сама. мать приучила меня ластиться, одиночество довершило мое воспитание, отвратив меня от буйных проказ. Однажды — мне было тогда семь лет — терпение деда лопнуло. Он взял меня за руку, объявив, что мы идем на прогулку. Но не успели мы свернуть за угол, как он втолкнул меня в парикмахерскую со словами: «Сейчас мы устроим маме сюрприз». Я обожал сюрпризы. Они у нас не переводились. Шуточные и трогательные заговоры, неожиданные подарки, перешептыванье, театральные разоблачения тайн с последующими объятиями таков был наш повседневный обиход. Когда мне надо было сделать операцию аппендицита, мать скрыла это от Карла, чтобы избавить его от волнений, которых он наверняка бы не испытал. Мой дядя Огюст дал нам денег, мы тайком уехали из Аркашона и укрылись в клинике Курбевуа. На второй день после операции Огюст явился к деду: «Я пришел сообщить тебе приятную новость». Умиленная торжественность его голоса ввела Карла в заблуждение. «Ты женишься!» — «Нет, — улыбаясь, ответил дядя, но все сошло прекрасно». «Что все?» и т. д. и т. п. Словом, театральные эффекты были у нас дежурным блюдом, и я благодушно глядел, как мои локоны соскальзывают по белой салфетке, которую мне повязали вокруг шеи, и падают на пол, вдруг как-то неожиданно потускнев. Я вернулся домой торжествующий и наголо остриженный.
Раздались возгласы, но поцелуев не последовало, и мать заперлась в детской, чтобы выплакать свое горе: ее девочку подменили мальчишкой. Но главная беда была в другом — пока вокруг моей головы кудрявились локоны, мать могла скрывать от самой себя очевидность моего уродства. Меж тем мой правый глаз уже погружался во мрак. Теперь ей пришлось взглянуть в лицо правде. Да и сам дед был растерян: ему доверили свет его очей, а он привел домой жабу это подрывало основы восторгов, просветлявших его душу. Бабушка поглядывала на него с усмешкой. «Карл и сам не рад — ходит повесив нос», заметила она коротко.
По доброте душевной Анн-Мари скрыла от меня причину своего горя. Я узнал ее — самым безжалостным образом только в двенадцать лет. И все же я чувствовал себя не в своей тарелке. Я часто ловил сострадательные и озабоченные взгляды друзей дома. С каждым днем мне становилось труднее угождать публике — приходилось не жалеть сил, я налегал на эффекты, стал переигрывать. Мне открылись терзания стареющей актрисы: я понял, что другие тоже могут иметь успех. У меня сохранилось два воспоминания, более поздних, но очень характерных.
Мне девять лет, идет дождь, в отеле Нуаретабль нас десять детей — десять волчат в одном логове. Чтобы чем-то нас занять, мой дед согласился сочинить и поставить патриотическую пьеску с десятью действующими лицами. Старшему из нашей компании, Бернару, досталась роль папаши Штрухофа, ворчуна с благородным сердцем. Я играю молодого эльзасца: мой отец избрал французское гражданство, и я тайком перехожу границу, чтобы пробраться к нему. Меня обеспечили репликой, рассчитанной па аплодисменты, я простирал правую руку, склонял голову и, уткнувшись постной физиономией в собственную подмышку, шептал: «Прощай, прощай, наш любимый Эльзас!» На репетициях мне твердили, что я неотразим, — меня это не удивляло. Премьера состоялась в саду. Стена отеля и кусты бересклета по обе стороны от нее служили границей сцены. Родители сидели в плетеных креслах. Дети веселились напропалую — все, кроме меня. Убежденный, что успех пьесы всецело в моих руках, я из кожи лез, стараясь понравиться в интересах общего дела. Я считал, что все только на меня и смотрят, и переусердствовал — аплодисменты достались Бернару, который меньше ломался. Дошло ли это до меня? После спектакля Бернар обходил зрителей, собирая пожертвования. Я подкрался к нему сзади и дернул за бороду, она осталась у меня в руках. Это была шалость премьера, рассчитанная на всеобщий смех. Я чувствовал себя в ударе и подпрыгивал то на одной, то на другой ноге, потрясая своим трофеем. Никто не засмеялся. Мать взяла меня за руку и поспешно отвела в сторону. «Что это на тебя нашло? — спросила она с укором. — Такая красивая борода. Все ахнули от огорчения!» Тут подоспела бабушка с последними новостями: мать Бернара сказала что-то насчет зависти. «Видишь, чем кончается дело, когда вылезают вперед». Я убежал от них, заперся в комнате и, встав перед зеркалом, долго корчил рожи.
Госпожа Пикар придерживалась мнения, что детям можно читать все: «Хорошо написанная книга не может причинить вреда». Когда-то в ее присутствии я попросил разрешения прочитать «Госпожу Бовари», и мать преувеличенно мелодичным голосом ответила: «Радость моя, но, если ты прочитаешь такие книги сейчас, что ты станешь делать, когда вырастешь большой?» — «Я их буду жить». На долю этого высказывания выпал самый неподдельный и наиболее длительный успех. Каждый раз, приходя к нам в гости, госпожа Пикар намекала на него, и польщенная мать восклицала с упреком: «Да замолчите же. Бланш, право, вы мне его испортите!» Я любил и презирал эту бледную толстую старуху — самого благодарного из моих зрителей. Как только объявляли о ее приходе, на меня нисходило вдохновение.
В ноябре 1915 года она подарила мне записную книжку в красном кожаном переплете с золотым обрезом. Деда не было дома, и мы расположились в его кабинете; женщины оживленно болтали между собой, чуть сдержанней, чем в 1914 году, потому что шла война: к окнам льнул грязно-желтый туман, воздух был пропитан застарелым табачным духом. Открыв книжицу, я был сначала разочарован. Я думал, что это роман или сказки, но на разноцветных листках обнаружил один и тот же двадцать раз повторяющийся вопросник. «Заполни его, — сказала госпожа Пикар, — и дай заполнить своим друзьям. Со временем тебе будет приятно вспомнить». Я понял, что мне предоставляется возможность показать товар лицом, и решил приступить к делу немедля. Я уселся за письменный стол деда, положил книжку на его бювар, взял ручку из галалита, обмакнул в пузырек с красными чернилами и стал писать, меж тем как дамы лукаво переглядывались. В мгновение ока я взмыл выше собственной души в погоне за «умными не по годам» ответами. На беду, вопросник не помогал. Меня спрашивали, что мне нравится, что нет, какой цвет я больше всего люблю, какой запах предпочитаю. Я без увлечения сочинял себе вкусы, как вдруг представился случай блеснуть. «Каково ваше самое заветное желание?» Я ответил без колебаний: «Стать солдатом и отомстить за убитых». После этого, слишком возбужденный, чтобы продолжать, я спрыгнул с кресла и понес мое творение взрослым. Взгляды исполнились ожидания, госпожа Пикар надела очки, мать склонилась к ее плечу, губы обеих заранее сложились в улыбку. И та и другая подняли головы одновременно — мать покраснела, госпожа Пикар протянула мне книжку: «Видишь ли, дружок, это интересно, только когда отвечаешь искренне». Я готов был провалиться сквозь землю. Мой промах очевиден: мне предназначали роль вундеркинда, а я сыграл юного героя. На мою беду, ни у одной из дам не было близких на фронте, военная героика не производила впечатления на их уравновешенные натуры. Я убежал, кинулся к зеркалу строить рожи. Теперь я понимаю, что эти гримасы были для меня отдушиной — мускульной блокадой я пытался парализовать мучительную судорогу стыда. Вдобавок гримасы доводили мой позор до высшей точки и тем самым освобождали меня от него; чтобы избежать унижения, я окунался в самоуничижение, лишал себя какой бы то ни было возможности нравиться, чтобы забыть, что она у меня была и я ею злоупотребил. Зеркало оказывало мне неоценимую помощь: я поручал ему убедить себя, что я урод. Если ему это удавалось, острый стыд уступал место жалости. Но главное, обнаружив в результате провала свою уродливость, я старался изуродовать себя, чтобы отрезать к ней все пути, чтобы отречься от людей и чтобы они от меня отреклись. Комедии добра я противопоставлял комедию зла. Иоас брал на себя роль Квазимодо. Перекашивая и морща лицо, я искажал его до неузнаваемости, вытравляя следы прошлых улыбок.