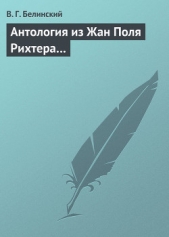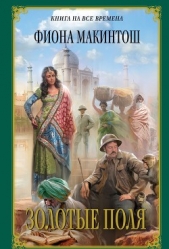Чернозёмные поля

Чернозёмные поля читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Какой же смысл имеют в таком случае твои насмешки? — вмешался Прохоров, которому показалось, что теперь горизонт разъясняется и что Суровцов поневоле должен сделать несколько очистительных шагов навстречу ему. — Ты сам сознайся теперь, что мы сходимся близко, что наше разногласие только кажущееся. Тебя интересует одна сторона вопроса, нас другая. А в сущности мы стоим за одно. А ведь ты каким было петухом набросился, herr professor… Заклевал было совсем, — с игривостью закончил Прохоров. — Наш брат юрист не горячится, как вы, учёные, зато видит дальше и вернее. Я недаром сказал: rira bien…
— Именно недаром, — засмеялся Суровцов. — Я и теперь не могу не смеяться над вашими затеями оплакивать жребий голодающих и холодающих дюжинами шампанского, перед бронзовыми каминами. Соловья баснями не кормят — просто, да ясно. Ты, как адвокат, — ярый эксплуататор, вопиющий монополист; как Серей Семёныч Прохоров — роскошник и сластолюбец, и все мы более или менее такие; зачем же ты хочешь только в петербургском журнале, в отделе хроники, заявляться санкюлотом, другом народа, да и то за выгодную полистную плату? Ты плачешь за народ в своих корреспонденциях типографскими чернилами, а народ настоящим образом плачет от тебя в твоей конторе. Ведь согласись сам: человек, заработывающий тридцать рублей в год на все свои потребности, не может платить тебе за одно дело триста, четыреста рублей. А без тебя он может делать это дело; а ты не можешь браться за дело дешевле сотен — не стоит, мол, рук марать. Если все люди останутся такими, как мы с тобой, — ей-богу, напрасно и заботиться о судьбе пролетария. Мне кажется, всякий деревенский помещик, поедающий кулебяки и не читающий ничего, кроме «Московских ведомостей», полезнее для пролетария, чем мы с тобою. Он ему то овсеца взаймы даст, то похлопочет за него у судьи, то барыня его больных ребятишек полечит. Мало, конечно, а всё ж больше пользы, чем от твоих корреспонденций.
— Благодарю за дифирамб! — сказал Прохоров, бледнея от злости, но стараясь улыбнуться.
— Поневоле вспомнишь Руссо, — продолжал Суровцов, не замечая негодования хозяина. — tel philosophe aime les tartares pour être dispensé d’aimer ses voisins… Согласитесь, господа, что он метко попал во многих из нас.
— Ну, крутогорский Цицерон! — вставил Протасьев, давно с улыбкою удовольствия следивший за поражениями Прохорова. — Ты наколот .как жук на булавку, и не шевелись!
Невольный дружный хохот ответил на эту выходку, но сейчас же смолк. Гости растерялись не менее хозяина. У Прохорова потемнело в глазах. Даже увлёкшийся Суровцов заметил его крайнее смущение и смекнул, что наделал много неловкостей. Один Протасьев наслаждался торжеством; он был зол по природе, а с некоторого времени, убедившись в видах Прохорова на Лидочку, неумолимо преследовал его, где только мог.
— Господа, я примирю ваши противоречия! — заговорил правовед, который считал себя глубоким знатоком света и был искренно убеждён, что его дипломатия в состоянии успокоить самые возбуждённые страсти. — Я по праву могу быть третейским судьёю: и как патентованный законник. и как человек вне партии. Я нахожу, что обе стороны виноваты и обе стороны правы.
Правовед нарочно остановился и оглядел самодовольными белесоватыми глазами публику; он твёрдо рассчитывал, что при такой эффектной выходке она грянет хохотом и неприятное дело окончится весёлою шуткою. Но публика была слишком смущена серьёзно обиженным видом хозяина, чтобы хохотать над остротами правоведа.
— Обе партии погорячились, обе партии увлеклись в преувеличении! — с несколько поколебленной бодростию продолжал оратор. — Истина всегда в середине. Недаром старые авторы называют её «золотой серединою». Я, господа, жрец золотой середины, как и приличествует жрецу Фемиды, взвешивающему дела людей на весах правосудия. Невозможно требовать от людей такого всестороннего и всецелого посвящения себя идее, как этого требует господин Суровцов, невозможно требовать и таких радикальных общественных реформ, каких желает в своей прекрасной статье наш талантливый друг, на пиршестве коего возлежим мы сегодня. Будемте мудры, господа, как наши учителя римляне. Хорошенького понемножку! Будем сочувствовать бедняку, но и не откажем в сочувствии душистой струе Moêtte! Будем желать реформ, но будем же и держаться со всею стойкостью консерваторов за мягкое кресло перед пылающим камином! Одно другому не мешает. Да здравствует будущее и да здравствует настоящее! Пусть будет у каждого пролетария курица в супе, как желал этого добрый французский король, но пусть же и на гостеприимном столе нашего любезного хозяина не исчезает удивительный сиг, которым он только что угощал нас.
— Сиг съеден! Теперь, господа, пора за рябчиков! — поспешил закончить Прохоров, оправляясь, сколько мог, и чувствуя всю невыгоду смущения. — Вместо копий остроумия вилки в руки. Суровцов сегодня ругался, как Тимон Афинский, и должен подать нами пример такой же энергии в истреблении ужина. Если его аппетит стал таким же деревенским, как и его язык, то, господа, поздравляю вас! Человек, давайте ужин!
Келия и гостиная
Весело было Лиде в Крутогорске. Заманчивым, нескончаемым сном пробегала для неё эта жизнь. Весело было и её maman, Татьяне Сергеевне, которая давно не видала себя в такой первенствующей общественной роли. И ей, как девятнадцатилетней Лиде, казалось, что всем хорошо, потому что было хорошо ей самой. В этом заблуждении немало поддерживала добрую генеральшу легкомысленная m-lle Трюше, которая не терпела деревенской жизни и имела баснословные представления о богатстве русских дворянских фамилий. M-lle Трюше выезжала и принимала вместе с Татьяной Сергеевной и чувствовала себя совершенно в своей тарелке. Но нельзя было сказать, чтобы мисс Гук была до такой же степени довольна переменой обстановки; добрая генеральша нуждалась в опоре суровой англичанки среди более серьёзных требований деревенской жизни, где ежечасно становились перед нею неумолимые вопросы хозяйства и воспитания. Но педантическая и сухая мисс, с своими вкусами и привычками методистки. оказалась решительно ненужною в обстановке губернского света, где болтливая и бывалая француженка могла развернуть все свои ресурсы. Таким образом нечувствительно кончилось первенствующее положение мисс Гук в доме генеральши. Этому помогло ещё и другое обстоятельство: по совету некоторых благоразумных людей, Татьяна Сергеевна решилась, наконец. устранить Алёшу из-под женского руководства и всё дело приготовления его к университету поручила учителям. Для повторения уроков к Алёше пригласили особого репетитора из гимназистов седьмого класса по фамилии Коврижкина, с условием, чтобы он был неотлучно при Алёше всё то время, в которое не бывает уроков в гимназии. Татьяна Сергеевна особенно настаивала на том, чтобы Коврижкин сопровождал Алёшу в его прогулках, так как она представляла себе решительно невозможным, чтобы её шестнадцатилетний Алёша мог безопасно пройтись по Московской улице без чьей-либо охраны и руководства. Алёша был очень рад, что его избавили от «змеи Кукши», как он называл вслед за няней Афанасьевной ненавистную ему англичанку. С гимназистом Коврижкиным он поладил очень скоро и очень выгодно для обоих. Татьяна Сергеевна никогда не заглядывала в его каморку над чёрною лестницею, потому что у неё всегда было слишком много других забот и потому, что она была вполне спокойна совестью насчёт образования Алёши, выплачивая его репетитору по двадцать пять рублей в месяц. А мисс Гук, хотя и постоянно томилась стремлением исследовать досконально томительные учебные часы, которые проводил Алёша с своим репетитором в уединении мезонина, и даже тщательно подсматривала, подслушивала и выспрашивала обо всём, касавшемся Алёши, однако из чувства оскоблённой гордости решилась показать генеральше, что она теперь умыла руки, и что всю ответственность за будущее возлагает на тех, кто так неблагоразумно предвосхитил от неё судьбу её питомца. Мисс Гук была вообще глубоко огорчена незаслуженною переменою своей роли, тем более. что она чувствовала упадок физических сил и не смела мечтать об открытом разрыве с генеральшею. Поэтому она хранила негодование в глубине сердца и только выливала его в тиши ночной на страницы своих новых мемуаров, в которых она подробно описывала воображаемой английской публике грубость нравов русского дворянского общества и которые она торжественно озаглавила «The mysteries of the russian high-life». С Алёшей в Крутогорске сделалась большая перемена. Он решился не учиться ничему. Он доставал и читал одни только религиозные книги. Все помыслы его были направлены на внутренний мир души, на загробную жизнь. Остальное представлялось ему жалкою игрушкою минуты, мишурою, закрывающею истину от глаз. Он не открывался никому, не говорил ни с кем, только стал ежедневно писать свой дневник. Дневник этот прятался, как документ опасного заговора, в дыру матраца, которую Алёша нарочно прорезал ножичком, с нижней стороны. Алёша не ложился спать, не сделав в дневнике самого беспощадного отчёта о всех поступках своих и мыслях своих в течение дня. Он анализировал там с той же точки зрения свою мать, свою сестру, их знакомых, их образ жизни. Он сидел почти всегда один в своей комнате за какою-нибудь благочестивою книжкою, которую он воровски прятал от всех, конфузясь и пугаясь, а между тем всё видел, во всё всматривался, во всё вдумывался. Он вёл там, в своей низенькой каморке, летопись прегрешений, которые совершались, к его ужасу, в блестящих салонах Татьяны Сергеевны. Бывало, Татьяна Сергеевна, проходя впопыхах через коридор распорядиться десертом или закускою, заглянет снизу не лестницу, увидит, что свеча потушена у Алёши, и скажет с доброю улыбкою m-lle Трюше: «А мой философ уже бай-бай залёг. Я рада, что он рано ложится!» Но Татьяна Сергеевна всегда ошибалась. Хоть и темно бывало в комнате Алёши, а он не спал. Он стоял в одной рубашке, голыми худыми коленями на голом полу, вперив в угол, где висела икона, воспалённые глаза, с рукою, замершею на лбу в крестном знаменье. Ему казалось так светло в том углу. куда смотрел он; он не видел ни стены дома, ни даже иконы: он прямо видел сквозь них широкую глубину неба, залитую беззакатным светом, роящуюся ангелами и ликами святых; он видел вместо солнца подножие престола, перед которым голова его в трепете падала ниц. Он дрожал и плакал, и шептал слова страстных молитв, которые сложил многие века назад воспламенённый мозг сирийских и фиваидских подвижников. Душа его в священном ужасе рвалась в этот мир пугающих и манящих грёз, всесильно овладевавших им. Он молился по два часа, не вставая с колен, то ослабевая до потери сознания, то загораясь приливами горячего восторга и умиления.