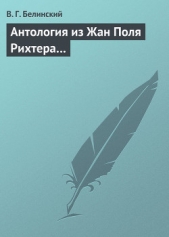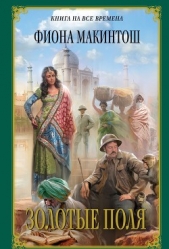Чернозёмные поля

Чернозёмные поля читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Не можете ли вы избрать для ваших ораторских упражнений кого-нибудь другого и оставить меня в покое? — гневно перебил его Багреев, повёртываясь к Суровцову спиною.
— Извините, пожалуйста, — спохватился Суровцов. — Всё равно, я хоть про себя буду говорить. Я вас беру, как тип, а не как господина Багреева.
— Прошу вас оставить меня и как тип, и как господина Багреева, я не привык служить моделью. Готов оспаривать ваши взгляды, но не желаю, чтобы вы иллюстрировали их моей особой.
— Полноте, пожалуйста, — сказал Суровцов, — к чему такие натянутости между людьми? Мы, слава Богу, не дипломаты и дом нашего милого Сергея Семёныча не дворец Наполеона. Не ставьте каждое лыко в строку! Не сбивайте меня. Я хочу сказать, что пролетарий — это только результат; причина — мы сами. Пока нам будет хотеться одеваться покрасивее, есть послаще, жить поленивее, до тех пор будет и пролетариат. Вы не хотите его — изменитесь сами, переродитесь в своих привычках. Ведь вот у первых христиан пролетариата не могло быть. Там все были одинаково скромны, одинаково трудолюбивы, все считали грехом корысть и добродетелью самоотвержение. Похожи ли мы с вами на них? Правда, вы не любите сравнения с собою, прошу извинить. Ну, Прохоров, — возьмём моего приятеля, автора последней статьи в защиту пролетария — ты ведь не сердишься, Сергей Семёныч? Ну признайтесь, идёт-таки ему вздыхать о бедняке? Посмотрите на него: сытый, белый, в перстнях, угощает нас как Лукулл, каждая бутылка три-четыре рубля, а бутылок дюжины. Ведь на одну нынешнюю вечеринку его прокормишь целый год нескольких пролетариев. А на то, что стоят его обои, лампы, его ковры, можно было бы соорудить фаланстерию для бедняков. Не шутя!
— Ты опять на личности! Ты ужасно потешный спорщик! — с улыбкой наигранного невнимания, словно мимоходом, заметил Прохоров. — Право, я начинаю думать, что ты сочиняешь на себя. Ты никогда не мог быть профессором. У тебя методы не человека науки, а — извини, пожалуйста, ты равно охотник до бесцеремонности, — а… канцелярского крючка. Ухватишься за какой-нибудь перстень, за какую-нибудь бутылку и на этом строишь мировые приговоры. Извини, что перебил тебя. Я не буду мешать твоим разглагольствованиям. Они меня сильно забавляют. Продолжай, пожалуйста.
Прохоров намеренно принял этот небрежный тон, чтобы снять с себя перед публикой опасную обязанность состязаться с своим приятелем.
— Ну вот и отлично! — хладнокровно продолжал Суровцов, бывший нынче в особенном ударе. — Я говорю, пока мы остаёмся самими собою, пока в человеке будет сидеть теперешний человек, завистник, сластолюбец, хвастун, лежебок, до тех пор слабая часть человечества будет задавлена, а сильная будет давить. Введите хоть сейчас Ликургово разделение полей, отберите капиталы, распределите их с арифметическою точностию по стольку-то рублей на рыло, как говорят мужики, и пустите жить человечество. Конечно, лица переменятся, но суть останется. Через десять лет опять увидите богачей и пролетариев, задавленных и давящих. Зачем же обманывать публику? Мы сами хотим остаться монополистами, чувствуем невозможность не быть ими, а в то же время взываем к правильному распределению средств, играем роль спасителей обделённого человечества. Я совершенно согласен с Протасьевым, что он в этом отношении самый честный из всех нас! Он то же, что все мы, плюс откровенность. Мы фарисеи, он мытарь! — со смехом прибавил Суровцов, поглядев в наглые глаза Протасьева.
— Хорошо сказано, — улыбнулся Протасьев. — Гривенник за мною.
Зыков давно протискивался в толпу говоривших, которая беспорядочно толклась посредине кабинета, и только ждал, когда Суровцов переведёт дух.
— Знаете, Анатолий Николаевич, — сказал он неожиданно, — вы защищаете отсталую теорию.
Голос Зыкова дрожал от непривычки говорить в большом обществе, но он тем решительнее старался смотреть в глаза Суровцову.
Багреев, услышав эти слова, с сочувственным изумлением обернулся к Зыкову, и его огненная борода просияла злорадным торжеством. Все глаза разом устремились на Суровцова, все ждали, что он скажет.
— Отсталую? — сказал он совершенно просто. — Ей-богу, не знаю; как-то не мастер различать ярлычки. Мне всё равно, как вы ни назовите;: отсталая или передовая, либеральная или консервативная. Дело в том, что она моя, что я так думаю, а не иначе.
— Видите ли, — поспешно перебил Зыков, — вы хотите поставить вопрос на слишком узкую и слишком шаткую почву, хотите подчинить его тому или другому настроению человека. Субъективные основы, как доказывает история, ненадёжны. Нужно искать объективных, не зависящих от расположения духа, от симпатий и антипатий. Придумать такое общественное устройство, при котором невозможно бы было нарушение экономического равновесия, — вот задача, разрешение которой спасёт пролетариат. Заметьте моё выражение: невозможно; это значит, хотите ли вы или не хотите, сочувствуете или не сочувствуете — разницы не произойдёт.
Багреев одобрительно покачивал в сторону Зыкова своим угловатым голым черепом и по временам с ядовитой пытливостью всматривался в Суровцова.
— Ну вот ваша теория, может быть, и очень передовая, судить не берусь, только, по-моему, она выдуманная с начала до конца, — отвечал Суровцов. — Что это за механизация человеческого духа? Вы полагаете, что изобретённая вами машинка общественного устройства должна совершенно обезличить человека и его внутренние свойства уже не будут иметь никакого влияния на результат? Но какое вы имеете право надеяться на это, когда всяком шагу мы убеждаемся в совершенно противном? Везде человек остаётся самим собою и умеет так искажать самый святой принцип, самое мудрое законоположение, что только руками всплеснёшь! Ведь считает же себя испанский доминиканец последователем галилейских рыбаков, — тот самый, что auto-da-fé выдумал.
— В таком случае вы отрицаете воспитательное значение социальных учреждений? — говорил Зыков. — В чём же вы видите ту таинственную силу, которая способна переродить человека? В откровении, что ли? В мистическом сознании своей греховности, над которым любят возиться методисты? Надеюсь, что вы не рассматриваете школу в буквальном смысле, как единственную школу людей. Это было бы слишком узко и произвольно. А кроме школы что же?
— Боже меня упаси! Я признаю жизнь гораздо более важною школою для человека, чем бедное наше училище, — отвечал Суровцов. — Я и не воображаю отвергать влияние общественного устройства на образование взглядов и привычек человека. Это было бы слепотою. Из чего же иначе был бы я другом всяких законодательных улучшений? Вы, кажется, хорошо знаете меня в этом отношении.
— А, вот видите! Ретируетесь понемножку! — ухмыльнулся Багреев, ожесточённо накачивая себя дымом сигары. — На чувствах не уедете далеко. Первое препятствие — и они спасовали. Всё дело в холодном разуме. Только его приговоры безошибочны. Недаром Бокль отрицает всякое влияние на ход истории нравственных расположений человека. Одна наука, один успех мысли — вот рычаг мирового прогресса.
— Спасибо вам за эту новость! — улыбнулся Суровцов. — Я совершенно согласен в этом случае с Боклем, потому что он согласен со мною. Только мне кажется, он не совсем согласен с вами. Легко сказать два слова: там наука, здесь чувство; для этого не нужно иметь голову Бокля; но понять, что такое наука, немножко труднее.
— Я полагаю, что это слово понятно и вам, и мне. Я настолько уважаю своих собеседников, — ядовито заметил Багреев.
— Батюшка, ради бога не обижайтесь. Я совсем не охотник ломать копья остроумия. Говорю, как приходится, самым простодушным манером. Конечно, наука — всё. Только вся наука, а не та её мёртвая часть, которая называется теориею. Наука делается рычагом мира только тогда, когда она входит, как кровь, в организм человека; когда она оживляет в нём всякий нерв, направляет всякое его движение. Наука — это вся истина; чтобы жизнь человека подчинялась истине, необходимо, чтобы истина воплотилась в него. А это что значит? Значит, мало знать истину, нужно ещё любить её. нужно её в себе носить. как нераздельную с собой душу. А разве это даётся одним механическим совершенствованием учреждений? Вы забываете пустяки, внутренний огонь человека, его волю, его страсти. Их переродить не так легко и просто, как освободить крестьян манифестом или закрыть старые суды и завести адвокатов. Вы увлекаетесь одною стороною дела, внешностью, обстановкою, на неё кладёте все упования ваши. Я не против обстановки; но я прежде всего за сущность, за душу дела. Поймите же разницу между ними.