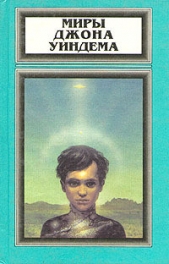Заупокойная месса
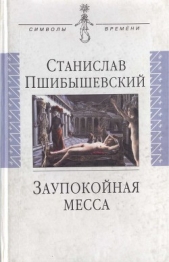
Заупокойная месса читать книгу онлайн
Польский писатель Станислав Пшибышевский (1868–1927) вписан в анналы европейского модернизма как определенный культовый феномен. Успех ему гарантировали высокий интеллектуализм, радикальность мышления, простиравшиеся вплоть до запретных областей, и современность антропологической концепции.
В России начала XX века он был не менее популярен, чем в Польше и Германии, и оказал огромное влияние на русских символистов.
В данное издание вошли избранная лирическая проза, драматургия и статьи популярного польского писателя.
Книга адресована широкому кругу читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Помню, я был еще ребенком:
Передо мной голубые дали, бледно-голубые, сверкающие дали. Тяжело поднимается солнечный жар, он жжет землю, он стоит над зеркалом озера сверкающими колющими огнями, и возвышаясь надо мною, круто подымая ветви, встает макушка тополя.
Блуждая, скользят мои детские глаза в бело голубой дали, в сверкающей, мерцающей, белой жаре, и в горячем пожаре кровь моя поднимается кипящим потоком.
Этот блеск и дрожание летней жары были в тебе, вокруг твоих сладострастно блаженных глаз — тогда, когда ты, горячая и счастливая, лежала в моих объятиях.
Вот передо мной картина, которую ты так любила: выжженная печальная степь, пожелтевшая трава и сухой бурьян. Ручей, заросший тростником. Тихий, едва текущий ручей, с дивными отражениями неба, объятого начинающейся вечерней зарей. Несколько растрепанных ив с высохшими ветвями стоят у ручья, а там дальше, расплываясь в прозрачном тумане, наполовину развалившаяся хижина.
И печаль степей, хмурая осень, полная боли и тоски, раздольная дума сухого бурьяна — это ты!
И я вижу, как небо, в стремительной поспешности, переливается всеми красками, всеми блесками, бесконечными измененьями облаков. Желто-зеленое по краям, пепельно-серое над пурпурно-фиолетовой полосой горизонта, и с востока на запад зубчатое, тысячекратно изломанное кольцо желтого пурпура: широкая зияющая рана кровавится на исполинском челе небес.
Я смотрю на небо и на исчезающий белый день. Рана разрастается все шире по темной лазури, переходит в огненную гангрену и бездну застывшей крови. А небо вокруг нее становится все бледнее и бледнее, все темнее и глубже пепельная тень земли, прерываемая зубчатыми золотыми отблесками последних лучей, и мало-помалу все исчезает и гаснет вокруг, глубже и глубже переходя в тяжелый, черно-голубой цвет.
И блеск заката, кровавое зарево на темной лазури, изменены! облаков, отблески и угасания — это ты!
В ушах моих звучит песня; темно-серый низкий тон, испещренный светло-голубыми огнями. И вдруг, как молния, проскользнула змейка жадных желаний, похотливого смеха и сгорела в пламенном крике наслаждения.
Из твоих глаз иногда прыгали к моему сердцу эти мягкие, переливчатые змейки. Они окружали его, сладострастно терлись о него и, шевеля языками, ложились спать в его мягкой теплоте.
И мое искусство — это ты! И священное орудие, настроившее мне все тоны мира явлений на эту одну доминирующую ноту, это ты! И я сам — это ты!
И так как ты была образом моей песни, так как ты была линией моей тоски и так как ты была и краской, и тоном, и запахом моей души, я должен был тебя любить…
Еще раньше, чем я увидел тебя, ты была во мне; еще раньше, чем я держал тебя в своих объятиях, ты жила в моих красках, дрожала в моих тонах и, как вечерняя заря, смягчая и умиротворяя, парила над моими воспоминаниями и освящала их странными глазами, и мягкими светящимися руками претворяла их в мистическую, затихающую, расплывающуюся мелодию.
И это была весна для моих сил, расцветающая гордость моего могущества, потому что ты была для меня пурпурной, чуткой тоскою сумерек и дрожащим красками беспокойством молодого дня, который наполняет каждый нерв горячим, счастливым утренним великолепием.
И ты сидела у меня на коленях. Теплые сумерки в мастерской. То там, то здесь вспыхивает, как блестящее пятно, какой-нибудь предмет. Снаружи воет декабрьский ветер, хлопья снега холодом бьют в окно: ветреный, режущий холод. Но перед нами весело потрескивает пламя в большом камине, отбрасывая на твое лицо пурпурные блики, дивные пурпурные пятна, как будто закатившееся солнце посылает земле свой последний прощальный привет. Ты у меня на коленях, а в руках у меня твои маленькие ноги, и я держу их против огня; знаешь ли, совершенно так же лежал я мальчиком на коленях моей матери, когда у меня бывал кашель, совершенно так же держала она мои ноги против огня.
О, я люблю тебя! Люблю тебя, как мое искусство в краске, звуке и слове, люблю тебя, как все мое безначальное прошлое, люблю тебя, как запах моей родной земли, как мистический шорох моей церкви, но больше всего я люблю тебя, как мою больную предвечную тоску бытия, как мое высшее утверждение жизни среди моего отвратительнейшего мучения, среди моей хилости, среди моего бессилия.
Исчезла для меня женщина с ее миссией и культурной мощью, исчезла ты с тайной моей индивидуальности, смыслом моего искусства, волей моего желания вечности — лишь одно осталось: исполинский символ, в который превратилась теперь моя женщина: тоска.
Тоска, которая творит в художнике, которая воздымает руки к Богу, которая заставляет мозг томиться в стремлении к познанию; больная, вечная тоска бытия: ликующая, крутящаяся горячими потоками, вонзающаяся тысячею раскаленных игл, разрушающая, соединяющая и вновь разрушающая в вечном однообразии, в вечной поспешности, в вечной муке и вечном блаженстве.
Вокруг твоей головы венок увядших цветов, точно пояс потухших звезд, и лик твой сияет следами былого великолепия.
У ног твоих в диких пенящихся валах бушует поток моей жизни, и, как вихрь, кружатся вокруг тебя больные думы моей души.
На серых крылах вьется вокруг тебя моя судьба, описывая шумящие кольца, ты — моя колыбель, ты — мой гроб.
Ты восстала из моря моей глубины, ты вошла в хрупкую жемчужную раковину моего бытия, ты больная красота, которая царишь над всякой красотой, о, тоска моя!
И почему ты должна была сделаться гробом для меня, почему твое ликование будущего должно было, точно воронье карканье, возвестить мой конец, а факелы, которые ты ставишь другим на пути к далекой горе счастья, для меня как погребальные свечи, стоят вокруг моего ложа?
Священное слово Господа, которое вызывает миры из ничего, Ты для одного! Ребро Адама, которое носит в себе новый, не подозреваемый прообраз, Ты для другого! Бродящая будущим закваска жизни, Ты — для всех! Только на мою голову возложила ты, вонзая, терновый венец с колючими иглами, ты больная красота, которая царишь над всякой красотой, о, тоска моя!
И несмотря на это, над головой моей было начертано, что моя душа, беременная твоей божественной первоначальной силой, должна родить все создания и вселенную в светозарных новых образах. Ибо я и вселенная с самого возникновения имели одно и то же начало.
Моя душа должна быть мощью твоей мощи, атмосферой, в которой все создания одушевляются новым желанием, она должна объять всю вселенную, проникнуть в каждую пору ее тайн и раскинуться над звездами, от одной к другой, как пурпурная мантия, как ковер отдохновения для твоего королевского величества искупительницы.
И ты жила в разврате моих грез и позволила заключить тебя в темницу моего слова, и расширила мой тон в пустынную равнину моей родины, чтобы только найти во мне свое новое царство, свое искупление.
Ты должна была взойти кровавым солнцем над горами для нового царства, царства моего мозга. И никогда, никогда ты не должна исчезать, потому что в моем царстве никогда не должно заходить солнце.
Для новой будущности, для третьего царства, хотела ты быть искупленной во мне.
И вот царю Я, твое искупление; Я — твое осуждение. Вот мое величие распростирается надо всем сущим: Я — твое последнее слово, которое бесконечной могучей рукой пишет в будущем божественно рожденное дело, дело третьего царства, дело мудрого господства.
И вот я сижу здесь и думаю, как я мог бы тебя искупить.
И теперь я вижу тебя.
Вокруг головы твоей венок из тысячи обнаженных молний. Ураганы столетий изорвали твои волосы; вечность людского счастья, бесконечность человеческого горя превратились в тебе в пламя. Ты плывешь на радуге затаенного могущества, и воля твоя, точно бездна кипящих сил.
О, дай мне аккорд, которым можно обнять твою мощь! Дай мне могучее слово, которое могло бы тебя выразить! Слово, аккорд, который, как дрожащий лихорадочный жар, пробежал бы по вселенной! Слово, да будет! первого дня; слово, аккорд, который, как ужас Синая, наполнил бы страхом мир: Я — твой Бог! Еще сильнее, еще могучее, — а, кто знает аккорд, кто знает слово нового деяния?!