Материнское поле
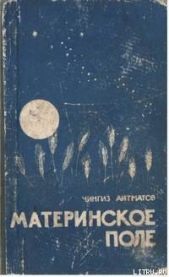
Материнское поле читать книгу онлайн
«Материнское поле» о сложных психологических и житейских коллизиях, происходящих в жизни простых деревенских людей в их столкновении с новой жизнью.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В ту весну большая старая яблоня — ее еще сам Суванкул сажал — так густо зацвела, словно заново набралась сил и помолодела. А когда сады цветут, воздух чист, все дали открываются. Сидела я так, любовалась всем вокруг, а тем временем почтальон наш старик Темирчал пожаловал. Здравствуй, мол, Толгонай, как поживаешь? А сам, против обыкновения, что-то очень заторопился, что-то очень ему не по себе было, кашлял надсадно и жаловался на кашель; на прошлой неделе, говорит, простыл, замучился совсем; а потом, как бы между прочим, говорит:
— Кажется, тебе письмо есть какое-то. — И достает его из сумки.
Я даже обиделась на такое равнодушие:
— Да что же ты сразу не сказал? От кого?
— Да вроде от Маселбека, — пробормотал он.
От радости я сначала не обратила внимания на то, что письмо это было не такое, как всегда, треугольником, а в твердом белом конверте с печатными буквами. Тут пришел на костылях фронтовик Бектурсун, сосед наш. Я подумала, что у него с раненой ногой хуже стало — еле притащился. Он иногда приходил к нам посидеть, поговорить. Бектурсун поздоровался, взял конверт. От Маселбека, говорит.
— А что у тебя руки дрожат? Да ты не стой на костылях, садись, прочти мне, — попросила я.
Он с трудом сел на кошму: нога у него не подгибалась. Дрожащими пальцами вскрыл конверт и начал читать. Эх, сынок мой, ведь я с первых слов все поняла.
«Понимаешь, мама, — писал он, — пройдет время, и ты поймешь меня, убедишься, что я сделал правильно. Да, ты обязательно скажешь, что сын твой поступил честно. И все-таки, хотя ты и поймешь, где-то в глубине твоего сердца останутся невысказанные мне слова: „Как же ты мог, сынок, так просто уйти из этого светлого мира? Зачем я тебя родила, зачем растила?“ Да, мама, ты мать и вправе спросить с меня, но на твои вопросы ответит потом история. А я сейчас могу лишь сказать, что мы не выпросили себе войну и не мы ее затеяли, это огромная беда всех нас, всех людей. И мы должны проливать свою кровь, отдавать свои жизни, чтобы сокрушить, чтобы уничтожить это чудовище. Если мы этого не сделаем, то не достойны будем имени Человека. Я никогда не жаждал совершать геройства на войне. Я готовил себя к самой скромной профессии — я хотел быть учителем. Я очень хотел им быть. Но вместо мела и указки мне пришлось взять в руки оружие и стать солдатом. Не моя в этом вина. Время мое оказалось такое. Я не успел дать детям ни одного урока.
Через час я иду выполнять задание Родины. Вряд ли я вернусь живым. Я иду туда, чтобы сохранить в наступлении жизнь многим своим товарищам. Я иду ради народа, ради победы, ради всего прекрасного, что есть в человеке.
Это мое последнее письмо, это мои последние слова. Мама! Да, тысячу раз я буду повторять твое материнское имя и все-таки останусь перед тобой в неоплатном долгу. Прости меня, мама, за горе, которое я приношу тебе. Но ты пойми, мама, это не безрассудная жертвенность, нет. Так учила меня жить сама жизнь. И это мой первый и последний урок детям, которых я должен был учить. Я иду по своей воле и убеждению. Я горжусь, что выполняю свой самый высокий долг перед людьми.
Не плачь, мама, пусть никто не плачет. В таких случаях никто не должен плакать.
Прости, мама, и прощай.
Прощайте, горы мои — Ала-Тоо! Как я любил вас! Твой сын — учитель, лейтенант Маселбек Суванкулов.
Фронт, 9 марта 1943 г. 12 часов ночи».
Как во сне я подняла тяжелую голову. Во дворе безмолвной толпой стояли люди. Никто не плакал. Маселбек просил, чтобы никто не плакал. Женщины подняли меня под руки. И когда я встала, то ветер набежал на яблоню и посыпались тучей белые лепестки цветов. Они бесшумно падали нам на головы. За белой нашей яблоней, за белыми вершинами далеких гор синело бесконечно чистое и бездонное небо. А во мне, в душе моей, поднимался крик. Мне хотелось кричать на весь белый свет. Но я молчала. Я выполняла последнюю волю моего сына, он просил, чтобы я не плакала. Я не знаю, что делала Алиман. Я увидела, как она медленно шла ко мне с вытянутыми руками. Она подошла совсем близко, посмотрела мне в глаза, отвернулась и пошла, закрыв лицо ладонями.
Вот так я лишилась и своего среднего сына. Осталась мне шапка его.
12
— А мне осталось имя его, Толгонай. Я его родина. Народу остались слова его, Толгонай. Они его земляки.
— Да, мать земля, все это так. И колхоз наш называется его именем. Письмо Маселбека прислали в сельсовет его однополчане вместе со своим письмом. Они писали, что никогда не забудут своего товарища, будут гордиться его подвигом и что Родина будет всегда чтить его память. Они писали, что Маселбек перед большим наступлением наших войск взорвал вражеский склад боеприпасов, от взрыва этого смело все живое вокруг. Я склоняю голову перед героями и перед сыном своим Маселбеком, славой которого горжусь. Но ничто, никакая слава не может мне возместить его живого. Пусть спросят любую мать, никакая мать не мечтает о такой славе. Матери рождают детей для жизни, для простого, земного счастья…
— Ты права, Толгонай. Я всегда помню ту весну, когда пришла победа, я всегда помню тот день, когда вы, люди, встречали солдат с фронта, но я до сих пор не могу сказать, Толгонай, чего было больше — радости или горя.
13
В тот день нам пришел черед пахать свой огород колхозным плугом. Мы заканчивали пахоту, когда вдруг на улице послышалась какая-то беготня и шум. Алиман побежала узнать, в чем дело, и вернулась мигом.
— Мама, собирайся быстрей, — заторопила она меня. — Народ идет солдат встречать.
Плуг, быки в ярме так и остались на пашне. Действительно, весь аил — конные, пешие, сгорбленные старики и старухи, дети, раненые на костылях — все куда-то бежали. На бегу передавали, что какой-то проезжий (зареченский как будто) сказал кому-то, что солдаты возвращаются по домам, что на станцию прибыли два эшелона, там ребята со всех аилов и что они уже в дороге и с часу на час должны подоспеть. Никто не спрашивал, правда ли это. Люди хотели этой правды, люди мечтали об этом долгожданном дне, поэтому ни у кого не было никаких сомнений.
Мы сбежались на окраину аила, туда, где закладывалась до войны новая улица. Конные не слезали с седел, пешие поднялись на пригорок у арыка, мальчишки забрались на развалины недостроенных стен, а иные вскарабкались на деревья. И все ждали и смотрели на дорогу. Одни, нетерпеливо перебивая друг друга, рассказывали о добрых снах, виденных накануне, другие собрали по пригоршне камешков, стали гадать на них. И во всем этом: и в снах, и в гаданиях, и в других предчувствиях и приметах — видели люди хорошие, желанные предзнаменования. Вспоминаю я теперь и думаю, что если бы люди во всем мире всегда так ждали, охваченные одним чувством, всегда так любили своих сыновей, братьев, отцов и мужей, как мы их ждали и любили, то на земле, может быть, не было бы войны.
Когда разговоры в толпе утихали, каждый молча думал о своем, опустив голову. Люди ждали решения судьбы. Каждый спрашивал себя: кто вернется, а кто нет? Кто дождется, а кто нет? От этого зависела жизнь и дальнейшая судьба.
Вот в такую минуту один мальчишка вдруг крикнул с дерева: «Идут!» И все замерли, натянулись, как струны комуза, а потом все разом глухо повторили: «Идут!» — и снова замолчали в ожидании, снова стало тихо. Очень тихо. Но затем, словно опомнившись, все зашумели: «Где? Где идут? Где?» — и снова замолчали. Впереди на большаке показалась бричка. Она резво катила по дороге, остановилась на развилке, где отходит проселок к нашему аилу, и с брички соскочил солдат. Он взял свою шинель, вещевой мешок, распрощался с возницей и зашагал в нашу сторону. В толпе никто не проронил ни слова, все молча и удивленно смотрели на дорогу, по которой шел всего лишь один солдат с шинелью и вещевым мешком, перекинутым через плечо. Он приближался, но никто из нас не двинулся с места. На лицах людей застыло недоумение. Мы все еще ждали какого-то чуда. Мы не верили своим глазам, потому что мы ожидали не одного, а многих.


























