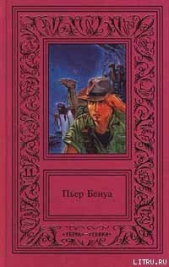Атлантида

Атлантида читать книгу онлайн
Герхарт Гауптман (1862–1946) — знаменитый немецкий драматург и писатель. В книгу вошли роман «Атлантида» (1911–1912), в котором писатель как бы предвосхитил трагическую гибель «Титаника» в 1912 г.; «театральный» роман «Вихрь призвания» (1936), а также новеллы «Масленица» (1887), «Сказка» (1941) и «Миньона» (1947).
Все произведения публикуются на русском языке впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Пройдя еще несколько шагов, они увидели Вильке, который остановил их и сразу же разорался. Со времени их последней встречи облик земляка Фридриха успел измениться: он явно постарался избавиться от плачевного самочувствия с помощью водки. Вильгельм отругал его, потому что Вильке не только приставал к другим пассажирам, но даже был для них опасен. Опьянев, он кричал, что его все преследуют. Раскрытый мешок Вильке, из которого торчали грязные тряпки, лежал на матраце рядом с сыром и ломтями недоеденного хлеба, а в правой руке он держал складной нож, каким пользуются охотники, добивая раненое животное.
Его обворовывают соседи, голосил Вильке, стюарды, матросы, провиантмейстер и сам капитан. Фридрих отобрал у него нож, окликнул его по фамилии и, коснувшись шрама на немытой шее дебоширившего подонка, напомнил ему, что уже однажды после поножовщины он, врач, его зашивал и с большим трудом преградил ему дорогу к праотцам. Вильке узнал Фридриха и унялся.
Когда оба врача поднялись наверх и вновь вдохнули чистого океанского воздуха, у Фридриха было такое чувство, будто он только что вырвался из адского плена.
Они с трудом передвигались по мокрой пустынной палубе, снова и снова омываемой набегающими волнами. Но бушующая стихия действовала на Фридриха благотворно и придавала ему сил. Он направился в дамский зал, чтобы прочесть пришедшее из дому письмо, о котором чуть было не забыл. В разных местах сидели поодиночке несколько дам, из тех, что не страдали морской болезнью, но вид у них был усталый, замученный. Все помещение пропахло плюшем и лаком. Здесь были зеркала в золоченых рамах и стоял концертный рояль. Ковер, разостланный на полу, скрадывал шум шагов.
Отец Фридриха фон Каммахера писал:
«Дорогой сын!
Не знаю, дойдет ли до тебя это письмо и если да, то где оно тебя настигнет. Быть может, в Нью-Йорке, куда оно, верно, прибудет уже после тебя. Собственно говоря, тебе бы следовало благословение старого отца и доброй матери взять с собою в путешествие, явившееся для нас, прямо скажем, неким сюрпризом. Но мы ведь привыкли к сюрпризам, которыми ты нас одариваешь, ибо уже с давних пор располагаем твоим доверием лишь в чрезвычайно скромных масштабах. Я фаталист и, кстати, весьма далек от того, чтобы докучать тебе упреками. И все же не могу не пожалеть, что со времени твоего совершеннолетия в наших мыслях и делах обнаружилось столько разногласий. Одному господу известно, как приходится об этом жалеть. Если бы ты хотя бы иногда меня слушался… Но ведь этим «если бы ты» и другими словесами, которые плетутся следом, делу не поможешь!
Мой дорогой мальчик! Судьба жестоко поступила с тобою (а я ведь уже тогда говорил тебе, что Ангела родом из нездоровой семьи), но ты должен ходить с высоко поднятой головой, и только тогда все встанет на свое место. И еще я настоятельно прошу тебя не принимать близко к сердцу эту нелепую историю с неудачным копанием в бациллах. Говорю тебе не первый раз, что всю эту шумиху с бациллами считаю сплошным надувательством. Ведь проглотил же Петтенкофер целую культуру тифозных бацилл, и ничего с ним не случилось. Ну что ж, поезжай в Америку, это совсем не дурная идея, здесь-таки может что-то путное получиться. Знаю людей, потерпевших в Европе крушение, но оттуда вернувшихся миллионерами, окруженными завистью и лестью. Не сомневаюсь, что после всех своих переживаний ты все продумал и все взвесил, прежде чем решиться на этот шаг…»
Со вздохом и еле слышным смешком Фридрих сложил письмо. Он хотел дочитать его позднее. Тут он заметил того самого молодого американского фата, который разозлил его вчера. Тот флиртовал с молодой дамой, о которой Фридриху было известно, что она канадка. Фридрих не поверил своим глазам, когда вдруг увидел, как юноша чиркнул целой горсточкой шведских спичек в огнеопасном месте. Подошел стюард и, склонившись со всей почтительностью перед юным денди, заявил, что долг обязывает его обратить внимание пассажира на недопустимость подобных действий. Со словами: «Get out with you, idiot!» [11] американец прогнал его.
Теперь Фридрих достал письмо матери, но, еще не начав его читать, подумал вскользь о том, каким же веществом заменен мозг в черепе молодого американца. Мать писала ему:
«Мой любимый сынок!
Молитвы твоей матери сопровождают тебя в пути. Ты многое испытал, пережил и выстрадал в свои молодые годы. Но я хочу, чтобы до слуха твоего дошло и что-то радостное. А потому знай: детишки твои здоровы. Три дня тому назад я смогла убедиться, что в доме у жизнерадостного и приветливого пастора Мохаупта им живется хорошо. Альбрехт очень похорошел. А Бернхарда, который больше похож на мать и всегда был молчаливым мальчиком, я нашла более живым и разговорчивым, чем раньше. Видно, жизнь в пасторском доме и копание в земле доставляют ему удовольствие. Господин Мохаупт считает, что оба мальчика вовсе не лишены способностей. Он уже начал давать им уроки латыни. Малышка Аннемари стала меня робко расспрашивать о матери, но особенно настойчиво о тебе. Я рассказала, что в Нью-Йорке или Вашингтоне состоится очень важный съезд, где наконец придумают, как покончить с туберкулезом, этой ужасной болезнью. «С чахоткой» или «с сухоткой», сказала я. Мальчик мой, возвращайся скорее в нашу старую добрую Европу!
У меня был долгий разговор с Бинсвангером. Он сказал мне, что у твоей жены дурная наследственность. Она была предрасположена к этой болезни, и рано или поздно хворь проявилась бы. Он говорил также о твоей работе, дитя мое, и сказал, что тебе только не следует раскисать. Четыре-пять лет упорного труда, и ты возьмешь реванш за поражение. Мой дорогой Фридрих, внемли своей старухе матери и доверь вновь свою душу нашему всеблагостному небесному отцу! Ты, кажется, атеист. Можешь сколько угодно смеяться над матерью, но поверь мне: без божьей помощи и божьей милости мы ничто! Молись хоть иногда, тебя ведь от этого не убудет! Я знаю, из-за Ангелы ты кое в чем несправедливо упрекаешь самого себя. Но Бинсвангер говорит, что в этом смысле ты можешь быть абсолютно спокоен. Если же ты станешь молиться, господь, верь мне, освободит твою истерзанную душу от малейшего намека на вину. Тебе лишь немного за тридцать, а мне на столько же за семьдесят. Опыт, принесенный мне долгими сорока годами, на которые я опередила тебя, своего младшенького, позволяет мне утверждать: твоя дальнейшая жизнь может еще сложиться так, что когда-нибудь в памяти сохранится лишь смутное воспоминание о нынешних бедах и заботах. Вернее, о фактах ты еще будешь помнить, но никак не сможешь представить себе свои нынешние тяжкие чувства, с ними связанные. Я женщина. Я полюбила Ангелу, но наблюдала беспристрастно за вами: за нею с тобой и за тобой с нею. Поверь: подчас она могла любого мужа довести до отчаяния».
Письмо заканчивалось изъявлениями материнской нежности. В мыслях своих Фридрих подсел к окну, у которого стоял рабочий столик его матери, и стал покрывать поцелуями ее голову, лоб и руки.
Подняв глаза, он увидел, как стюард опять подошел к молодому денди, и слышал, как тот отослал его прочь, крикнув на чистом немецком языке:
— Ваш капитан осел!
Слова эти точно электрическим током ударили по нервам всех, кто их слышал. При этом таившееся в тени огнеопасное место снова озарилось небольшим пламенем.
Мысленно Фридрих препарировал по всем правилам анатомического искусства большой мозг и мозжечок молодого американца, как если бы собирался показать студентам центр глупости, которая, без сомнения, заполняла всю душу этого человека. Кроме того, большую редкость представляла собою выступавшая здесь во всей красе наглость, центр которой, по-видимому, также находился в мозгу. Фридрих фон Каммахер не мог не рассмеяться и в разгаре охватившего его веселого настроения подумал о причине внезапно пришедшей свободы: она была в том, что Мара, юная Ингигерд Хальштрём, потеряла власть над ним и имела для него, пожалуй, даже меньше значения, чем, скажем, смуглая еврейка, которую он впервые в жизни увидел каких-нибудь четверть часа назад.