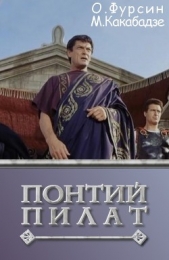Реликвия

Реликвия читать книгу онлайн
Роман "Реликвия" (1888) — это высшая ступень по отношению ко всему, что было написано Эсой де Кейрошом.
Это синтез прежних произведений, обобщение всех накопленных знаний и жизненного опыта.
Характеры героев романа — настоящая знойность палитры на фоне окружающей серости мира, их жизнь — бунт против пошлости, они отвергают невыносимую обыденность, бунтуют против пошлости.
В этом романе История и Фарс подчинены Истине и Действительности…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я испуганно съежился. Тетушка же, проведя кружевным платочком по своим бескровным губам, продолжала все более властно, с возрастающим волнением, — и под ее плоским лифом даже затрепетало нечто вроде человеческого сердца:
— А теперь я скажу тебе, для твоего руководства, лишь одно слово!..
И я и гости, почтительно толпившиеся вокруг тетушки, — все поняли, что она намерена высказать нечто чрезвычайное. В прощальную минуту, в окружении духовных пастырей и блюстителей закона, дона Патросинио дас Невес готовилась открыть тайное побуждение, повелевшее ей отправить меня, своего племянника и пилигрима, к святым местам. Наконец-то я узнаю так же неопровержимо, как если бы прочел это на листе пергамента, о чем я должен денно и нощно печься в евангельской земле!
— Слушай же, — сказала она. — Если ты хочешь уважить меня за все, что я для тебя сделала после смерти твоей матери, за то, что воспитывала и одевала тебя, за то, что подарила тебе лошадь для прогулок, за то, что заботилась о твоей душе, привези мне из святых мест чудотворные мощи: я хочу хранить их дома, искать у них утешения в скорбях и исцеления от недугов.
И впервые за пятьдесят лет непоколебимой душевной черствости быстрая слеза выкатилась из-под ее очков и побежала по лицу.
Доктор Маргариде рванулся ко мне.
— Теодорико, ради тетушки! Обыщи все развалины, обшарь гробницы! Достань священную реликвию!
Я возбужденно закричал:
— Тетечка! Честное слово Чернобурого! Я достану вам замечательную реликвию!
Гостиная сотряслась от шумных излияний чувств.
Губы Жустино, еще маслянистые от жирного печенья, припали к моим усам…
Ранним воскресным утром шестого сентября, в день святой Ливании, я тихонько постучался в комнату к тетушке. Она еще спала на своем целомудренном ложе. Я услышал, как мягко зашуршали по ковру ночные туфли. Затем дверь слегка приотворилась. Видимо, тетушка была в одной сорочке, потому что стыдливо просунула в узкую щелку свою костлявую, точно пергаментную руку, пахнувшую нюхательным табаком. Я бы охотно ее укусил — но все же приложился к пальцам слюнявым поцелуем; тетушка прошептала:
— До свиданья, мальчик… Поклонись от меня гробу господню!
Надев пробковый шлем, я спустился с лестницы, держа «Путеводитель по Востоку» под мышкой. Вслед мне неслись всхлипывания Висенсии. Новый кожаный чемодан и туго набитая холщовая сумка уже лежали в коляске. Поздние ласточки щебетали на карнизах домов; в церкви св. Анны звонили к заутрене. И луч солнца, засиявший на востоке, луч из Палестины, приветливо и весело скользнул по моему лицу, словно ласка небесного отца.
Я захлопнул дверцу, уселся поудобнее и крикнул:
— Трогай!
Так, в роскоши и комфорте, пуская по ветру колечки сигарного дыма, выехал я из тетушкиного дома и начал свое паломничество в Иерусалим.
II
В воскресенье, в день святого Иеронима, я высадился наконец на александрийской пристани, и ноги мои, привыкшие топтать латинскую почву, ступили на землю фанатичного, чувственного Востока. Я возблагодарил небо за благополучное прибытие, а спутник мой, знаменитый немец Топсиус, профессор Боннского университета и действительный член Имперской академии исторических раскопок, открыл свой необъятный зеленый зонт и произнес нечто вреде заклинания:
— Египет! Египет! Привет тебе, черный Египет! Да будет милостив ко мне твой бог Птах, покровитель литераторов и историков, вдохновитель искусств и поборник истины!
Я слушал краем уха его ученое жужжание, а сам впитывал теплое, словно из оранжереи, дыхание Египта, напоенное ароматом роз и сандалового дерева.
На пристани, заваленной тюками с шерстью, вытянулось скучное, грязное здание таможни. Но дальше, за ним, белые голуби вились вокруг белых минаретов. Небо сияло. Среди строгих пальм томно дремал на берегу дворец, а вдали, уходя за линию горизонта, желтели в дымке зноя, точно львиная грива, вольные древние пески Ливии.
Я полюбил с первого взгляда эту страну лени, сновидений и солнца. Усаживаясь в обитую ситцем коляску, которая должна была доставить нас в «Отель пирамид», я, по примеру просвещенного боннского доктора, решил воззвать к местным божествам:
— Египет! Египет! Привет тебе, черный Египет! Да будет ко мне милостив…
— Нет, дон Рапозо, пусть уж лучше к вам будет милостива Изида, сладострастная телица! — выручил меня, улыбаясь, ученый муж и подхватил мою шляпную картонку.
Я его не понял, но проникся уважением. Мы познакомились с Топсиусом на Мальте, свежим ранним утром: я покупал фиалки у цветочницы, в чьих глазах уже брезжила мусульманская нега, а Топсиус в это время сосредоточенно вымерял зонтиком толщину полукрепостной, полумонастырской стены дворца Великого Магистра.
Предположив, что в этих дышащих историей краях каждый просвещенный и верующий путешественник обязан обмерять памятники старины, я вытащил из кармана носовой платок и, растянув его наподобие портняжного аршина, начал с самым серьезным видом водить им по шершавым каменным плитам. Топсиус сейчас же устремил на меня поверх золотых очков подозрительный, ревнивый взор. Но, успокоенный жизнерадостным и плотским выражением моей физиономии, а также приметив надушенные перчатки и легкомысленный пучок фиалок, он любезно приподнял шелковую докторскую шапочку, выставив при этом на обозрение гладкие, длинные льняные волосы. Я приветственно взмахнул шлемом, и мы разговорились. Назвав свое имя, я рассказал, откуда прибыл и какие возвышенные побуждения влекут меня в Иерусалим. Он же сообщил, что его родина — Германия и что он тоже направляется в Иудею с научной целью: собрать материал для многотомного труда по истории Иродов. Но по дороге он намерен задержаться в Александрии, дабы отыскать кое-какие данные для другого монументального сочинения — «Истории Лагидов»: эти два беспокойные семейства — Ироды и Лагиды — были исторической специальностью высокоученого Топсиуса.
— Стало быть, мы следуем по одному маршруту. Почему бы нам не ехать вместе, доктор Топсиус?
Он с готовностью поклонился.
— Что ж, поедемте вместе, дон Рапозо. Вдвоем и веселей, и дешевле!
Мой новый друг был высок, тощ, длинноног. Коротенькая люстриновая курточка топорщилась от рассованных по всем карманам рукописей. Прибавьте к этому тесный воротничок, узкие брюки и длинный нос — и перед вами будет презабавный ученый аист с золотым пенсне на кончике клюва. Но мое плотское естество уже преклонялось перед его интеллектуальностью, и мы пошли пить пиво.
В семье этого молодого человека ученость оказалась фамильным достоянием. Его дед по матери, натуралист Шлок, был автором нашумевшего восьмитомного исследования «О физиогномике ящериц», изумившего всю Германию. Дядя его, престарелый Топсиус, незабвенный египтолог, в возрасте семидесяти семи лет, прикованный к креслу подагрой, продиктовал свое талантливое и столь доступное сочинение: «Монотеистический синтез египетской теогонии в призме соотношения между культом бога Птаха и бога Имхотепа с триадами номов».
Отец Топсиуса, по печальному недоразумению, пошел наперекор семейным традициям и посвятил себя игре на корнет-а-пистоне в мюнхенском духовом оркестре. Но юный Топсиус подхватил фамильное знамя и двадцати двух лет от роду опубликовал девятнадцать статей в еженедельном «Бюллетене исторических раскопок», пролив немеркнущий свет на вопрос о кирпичной стене, воздвигнутой царем Пи-Сибхме XXI династии вокруг Усыпальницы Рамзеса II в легендарном городе Танисе. Ныне соображения Топсиуса об этой стене сияют на небосводе ученой Германии столь же непреложно, как солнце на небе.
В моей душе Топсиус оставил самые добрые и светлые воспоминания. И в бурных волнах Тирского моря, и на унылых улицах Иерусалима, и на привале у развалин Иерихона, где мы ночевали по-братски в одной палатке, и на зеленых холмах Галилеи — всюду он был услужливым, осведомленным, сообразительным и терпеливым товарищем. До меня редко доходил смысл его чеканных, как бы выбитых на золоте наречений; но я благоговел перед запечатленной дверью сего святилища, ибо знал, что за нею, во мраке, сверкает субстанция чистого разума.