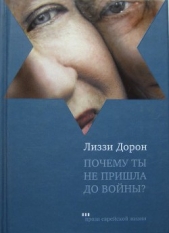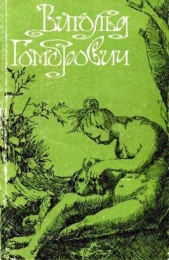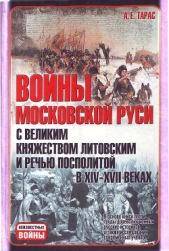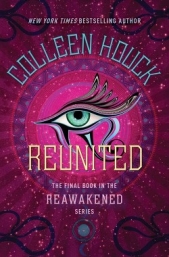Порнография
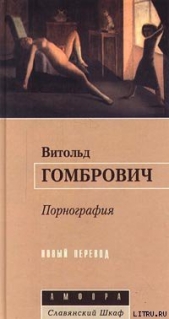
Порнография читать книгу онлайн
«Порнография» – один из наиболее популярных романов известного польского писателя и драматурга Витольда Гомбровича. Действие романа разворачивается в Польше военных лет, но исторические реалии – лишь фон для захватывающего сюжета о молодости и любви.
__________________________
По сравнению с предыдущими романами Гомбровича «Порнография» – более традиционная и целостная вещь, совершенная по композиции и безукоризненно мрачная. Гомбрович, этот апостол незрелости, с поразительной зрелостью подчинил и свои формы искания, и свои подсознательные комплексы принципам искусства, создав, как сказано в его собственном предисловии к английскому изданию, «благородный, классический роман, чувственно-метафизический роман». (Джон Апдайк)
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Дали бы вы мне свой старый пиджак.
– Зачем он тебе?
– Нужен. Для коммерции.
– Что же из того, что он тебе нужен?
– Нужен! – нагло посмеиваясь, повторил Кароль.
– Ну так купи, – отрезал Фридерик.
– У меня нет денег.
– У меня тоже нет.
– Дали бы вы мне пиджак!
Пани Амелия ускорила шаг – Фридерик тоже – Кароль тоже.
– Дали бы вы мне пиджак!
– Дали бы вы ему пиджак!
Это была Геня. Она присоединилась к ним, а жених немного отстал. Она шла с Каролем, ее голос, движения были такими же, как у него.
– Дали бы вы ему пиджак!
– Дали бы вы мне пиджак!
Фридерик остановился, шутливо поднял руки вверх:
– Дети, дети, помилуйте!
Амелия, даже не обернувшись на них, все ускоряла и ускоряла шаг, казалось, что она спасается бегством. Действительно, почему же она так ни разу и не обернулась? Это было ее ошибкой: выглядело так, будто она убегает от ребячливого озорства (тогда как ее сын отошел на второй план). Но вот вопрос, от кого она убегала: от них или от него, Фридерика? Или же от него с ними? Казалось маловероятным, чтобы она могла пронюхать что-нибудь о выходках этих несовершеннолетних, нет, на такие делишки у нее не было нюха, и, кроме того, они оставались для нее на вторых ролях – ведь Геня имела для нее значение только вместе с Вацлавом, как его будущая жена, а Геня с Каролем были детьми, молодежью. Следовательно, если она убегала, то убегала от Фридерика, от той фамильярности, которую допустил по отношению к нему Кароль – для нее непонятной, – которая прорвалась здесь, при ней, которая метила в нее… потому что этот мужчина, преследуемый мальчишкой, разрушал и перечеркивал с помощью мальчишки тот авторитет, который он, казалось, признавал за ней… И эта фамильярность была обострена вмешательством невесты сына! Поэтому бегство Амелии было признанием того, что она все это заметила, приняла к сведенью! Когда она ушла вперед, те двое перестали приставать к Фридерику с пиджаком. Потому что она ушла? Или потому что иссякло их остроумие? Само собой разумеется, что Фридерик, хотя и ошеломленный этой юношеской атакой и похожий на человека, который едва спасся от хулиганов на окраине города в ночное время, пустил в ход все средства предосторожности, чтобы случайно какой-нибудь «дикий зверь», тот зверь, с которым он не встречался, но которого так опасался, не вырвался бы на волю. Фридерик тотчас же подошел к Ипполиту с Марией и принялся «заговаривать» все эти бестактности, даже окликнул Вацлава, чтобы и с ним предаться обычной расслабляющей беседе. И весь остаток вечера он сидел, как заяц под кустом, даже не смотрел на них, на Геню с Каролем, на Кароля с Геней, и лишь демонстрировал свое стремление к расслабленности и покою. Он откровенно боялся того пробуждения глубинных сил, которому способствовала Амелия. Он боялся этого именно в комбинации с беспечной и юной легкостью, легкомыслием, он чувствовал, что эти две системы не могут ужиться, потому и опасался взрыва и вторжения… чего? Чего? Да, да, именно этой взрывчатой смеси он боялся, этого А (то есть «Амелия»), умноженного на (Г + К). Поэтому ушки на макушке, поджать хвост, тихо, ша! Он зашел так далеко, что за ужином (который проходил в семейном кругу, так как беженцам из-под Львова подали еду наверх) даже провозгласил тост в честь жениха и невесты, пожелав им от всего сердца всяческого благополучия. Трудно требовать более образцового поведения. Увы, и здесь дал о себе знать тот механизм, из-за которого Фридерик обычно тем сильнее запутывался, чём более хотел устраниться, – но в данном случае это произошло в особенно резкой, даже драматичной форме. Уже только то, что он встал, внезапно вырос над нами, сидящими, вызвало неуместную панику, а пани Мария не удержалась от нервного «ах» – так как неизвестно было, что он скажет, что он может сказать. Однако первые фразы подействовали успокаивающе, они были традиционными, не без юмора – поводя салфеткой, он благодарил за то, что его жизнь, жизнь старого холостяка, окрашена такой волнующей помолвкой, несколькими гладкими фразами в самом привлекательном свете представил жениха и невесту… и лишь по мере того, как он говорил, начало нарастать за тем, что он говорил, то, чего он не говорил, ах, вечно одна и та же история!… И в конце концов, к ужасу самого оратора, оказалось, что его спич служит исключительно для отвлечения нашего внимания от его настоящего выступления, происходящего в молчании, за ширмой произносимых слов, и передающего то, чего не было в словах. Сквозь гладкие фразы проступала сама сущность его. Ничто не могло замаскировать это лицо, эти глаза, выражающие какую-то неумолимую правду, – а он, чувствуя, что становится страшен и, значит, опасен для самого себя, на голову вставал, чтобы казаться симпатичным, и расточал умиротворяющую риторику в архинравственном, архикатолическом духе, о «семье как ячейке общества» и о «почитании традиций». Одновременно же он бросал в лицо Амелии и всем нам свое лицо, лишенное иллюзий и неотвратимо реальное. Сила этой «речи» была просто потрясающей. Самое разрушительное выступление, какое мне когда-либо удавалось услышать. И заметно было, что сила, эта своеобразная тайная сила, несла его, как лошадь седока!
Он закончил пожеланиями счастья. Высказался примерно в таком роде:
– Господа, они заслуживают счастья, так пусть же будут счастливы.
Что означало:
– Говорю, чтобы говорить.
Пани Амелия поспешно сказала:
– Мы очень, очень признательны!
Звон сдвинутых бокалов заглушил страх; Амелия, беспредельно любезная, сосредоточенная на своих обязанностях хозяйки дома: может быть, кто еще желает мяса или водки… Все разом заговорили, просто чтобы услышать собственный голос, и в этом гомоне стало как-то полегче. Подали творожник. В конце ужина пани Амелия встала и пошла в буфетную, мы же, подогретые водкой, шутили, расписывая барышне, что и как подавалось в подобных случаях перед войной и каких деликатесов она лишилась. Кароль смеялся искренне, от души и подставлял рюмку. Я заметил, что Амелия, которая вернулась из буфетной, села на свой стул как-то странно – постояла рядом и через мгновение, как по команде, села, – и не успел я над этим задуматься, как она упала со стула на пол. Все вскочили. Мы увидели на полу кровавое пятно. Из кухни послышался женский крик, а потом за окнами прогремел выстрел, и кто-то, кажется, Ипполит, бросил на лампу пиджак. Темно, и опять выстрел. Поспешное запирание всех дверей, Амелию переносят на диван, лихорадочная суета в темноте… при этом пиджак на лампе начал тлеть, затоптали, как-то внезапно все успокоилось и затихло, настороженность, мне Вацлав сунул в руки двустволку и подтолкнул к окну в соседней комнате: покараульте! Я увидел тихую садово-лунную ночь, а полузасохший лист на ветке, которая заглядывала в окно, каждую секунду поворачивался серебристым брюшком. Я сжимал оружие и вглядывался, не появится ли кто-нибудь оттуда, из сырости сомкнувшихся рядов деревьев. Но только воробей копошился на ветке. Вот наконец захлопали какие-то двери, кто-то громко заговорил, послышались еще голоса, и я понял, что паника миновала.
Рядом со мной появилась пани Мария.
– Вы понимаете в медицине? Идемте. Она умирает. Ее ударили ножом… Вы понимаете в медицине?
Амелия лежала на диване, головой на подушке, а в комнате было полно народа – та семья беженцев, прислуга… Неподвижность этих людей поразила меня, от них тянуло бессилием… тем же, которое часто проступало во Фридерике… Они отступились от нее и оставили ее, чтобы она сама справилась со своей кончиной. Они уже только ассистировали. Ее профиль окаменело выступал, как горный хребет, а рядом Вацлав, Фридерик, Ипполит – стояли… Долго ли она будет умирать? На полу таз с ватой и кровью. Но тело Амелии не было единственным телом, лежащим в этой комнате, там, на полу, в углу, лежало другое… и я не знал, что это за тело, откуда оно взялось, я не мог разглядеть, кто там лежит, но в то же время меня не оставляло смутное ощущение чего-то эротического… что сюда примешивалось нечто эротическое… Кароль? Где Кароль? Опершись рукой о спинку стула, он стоял, как и все, Геня же стояла на коленях, положив руки на кресло. И все обращены были к Амелии настолько, что я не мог поближе рассмотреть то тело, добавочное и нежданно-негаданное. Никто не двигался. Но все с напряжением присматривались к ней, и в их лицах читался вопрос – как она умрет, – так как от нее следовало ожидать более достойной кончины, чем заурядные смерти, и этого ждал от нее ее сын, и Ипполит, и Геня, и даже Фридерик, который не сводил с нее глаз. Парадоксально, что они требовали действия от человека, который застыл в бессильной неподвижности, однако лишь она единственная была здесь призвана к действию. И она знала об этом. Вдруг жена Ипполита выбежала и вернулась с распятием, и это было как призыв к действию, адресованный умирающей, а у нас спала с сердца тяжесть ожидания – теперь мы уже знали, что скоро начнется. Пани Мария с крестом в руке стояла у дивана.