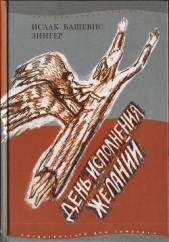Суббота в Лиссабоне (рассказы)

Суббота в Лиссабоне (рассказы) читать книгу онлайн
В книгу вошли рассказы нобелевского лауреата Исаака Башевиса Зингера (1904–1991), представляющие творчество писателя на протяжении многих лет. Эти произведения разнообразны по сюжету и тематике, многие из них посвящены описанию тех сторон еврейской жизни, которые ушли в прошлое и теперь нам уже неизвестны. Эти непосредственные и искренние истории как нельзя лучше подтверждают ставу бесподобного рассказчика и стилиста, которой И. Б. Зингер был наделен по единодушному признанию критиков.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Молитесь? — спросил Шмуль.
— А что еще остается, когда состарился?
— Как делаешь жизнь?
Старик не понял значения этого выражения. Он улыбнулся, обнажились пустые десны. Потом сказал:
— Если Всемогущий дает здоровье, дает и жизнь.
Шмуль вернулся домой. Спустились сумерки. Отец ушел в синагогу на вечернюю молитву. Сын остался с матерью. Комната заполнилась нелепыми тенями.
Берлиха начала нараспев, торжественно и монотонно:
— Господь Авраама, Господь Исаака, Господь Иакова. Да будет благословенно Имя Твое. Святая суббота уходит. Добро пожаловать к нам, неделя. Да будет она богата здоровьем, богатством и добрыми делами.
— Мать, тебе не надо молиться о богатстве. Ты уже богата.
Берлиха не услышала. Или притворилась, будто не слышит. По лицу ее пробегали неясные тени.
Еще стемнело. Зашло солнце. Шмуль протянул руку и достал из кармана пиджака паспорт, чековую книжку, кредитные письма. У него были большие планы, когда он сюда ехал. Он привез с собой два полных чемодана. Подарки родителям. Дары городу. Он привез не только собственные деньги. В Нью-Йорке уже есть фонд Ленчинского общества. Они организовали благотворительный бал в пользу местечка. Но городку этому, затерянному в глуши, ничего не нужно. Из синагоги доносилось хриплое пение. Сверчок, молчавший весь день, снова застрекотал. Берлиха начала раскачиваться из стороны в сторону. Запела песню, которую пели еще матери и бабушки. В наступившей темноте святые наивные слова древней песенки рассказывали про овечку, про Тору и добрые дела, про Мессию, который скоро придет.
ЭГОИСТ
Я жил на Риверсайд-драйв, в многоквартирном доме. Двумя этажами выше жила Мария Давидовна. У нее бывали очень известные эмигранты из России: радикалы, социалисты. Была она высокого роста, смуглая, с классическими чертами. Серые глаза за толстыми стеклами пенсне. Волосы забраны в пучок. Всегда в темной юбке и блузке с высоким воротничком. Облик русской девушки-революционерки: живет на чердаке, печатает на гектографе или помогает делать бомбы, чтобы потом бросать их в царских сатрапов. Познакомился я с ней так: когда сломался лифт, я помог ей донести снизу старую, растрепанную русскую энциклопедию — она купила ее на Четвертой авеню. Потом мы познакомились ближе, она приглашала меня заходить — сыграть партию в шахматы. И каждый раз меня обыгрывала.
Постепенно я перезнакомился с ее друзьями. Особенно близко узнал трех ее постоянных посетителей. Попов в свое время был руководителем одной из фракций в Государственной Думе. Уже в Нью-Йорке овдовел. Теперь же был женат на дальней родственнице Марии Давидовны. Жил близко, всего лишь за несколько кварталов. Новая жена его много болела, и ему приходилось вести хозяйство.
Сколько раз я встречался с ним в универсаме — всегда он толкал перед собой нагруженную тележку. Был он коренастый, широкоплечий, с совершенно белой головой. И козлиная бородка, что-то наподобие эспаньолки, — совершенно седая. Румянец во всю щеку. Да курносый нос. Неизменно в двубортном пиджаке, в тупоносых ботинках. Мягким узлом завязан галстук. Казалось, одет так же, как одевались сорок лет назад — даже в тот самый костюм. Такие же я видел на фотографии в какой-то книге о России. И то же выражение лица. При встрече он всегда протягивал руку — за сим следовало короткое, однако энергичное, сильное пожатие. Я не знал русского, и потому мы с ним объяснялись на ломанном английском. Среди русских эмигрантов он слыл миротворцем: всех мирил, предотвращал раскол в многочисленных фракциях. Что бы там ни было, а мы все же живем в свободной стране — такова была суть его уговоров — неизменно добродушно, мирным спокойным тоном.
Другой постоянный гость, профессор Бюлов, писал историю русского революционного движения: от декабристов до Сталина. Высокий, статный, настоящий великан с раскосыми монгольскими глазами и желтой кожей. Говорил он мало. Лишь изредка кивнет, бывало, и опять только слушает. Мария Давидовна рассказала как-то, что родился профессор далеко на Севере, в молодости ходил с рогатиной на медведя. Много лет провел в одиночном заключении, отсюда и его необычайная молчаливость. Плоское лицо, низкий лоб, приплюснутый нос, волосы ежиком — как щетка. Большевиков ненавидел он страстно. Казалось, только эта страсть пылает в его суровом взоре. Представлялось мне, будто он попал к нам прямо из эпохи Чингизхана. От Марии Давидовны я знал, что Бюлов никогда не смог простить Попову, что тот голосовал против ареста Ленина. Говорили, будто профессор бежал из России после убийства какого-то гепеушника. Когда бы ни заговаривал он о сегодняшнем дне России, кулак его опускался на стол. И всегда я ощущал, что бедный этот стол едва-едва выдерживает тяжесть мощного кулака. Того и гляди, развалится.
Третий был Кузенский. Будучи знатного графского рода, он примкнул к революционному движению еще в молодости. Во время девятимесячного правления Керенского играл важную роль в русском правительстве. Совсем иной тип: высокого роста, стройный, поджарый, с высоким лбом, черной остроконечной бородкой — и это несмотря на то, что ему уже было, видимо, сильно за шестьдесят. Карие глаза постоянно улыбались — лукаво, умно, с юмором.
У Кузенского была репутация скептика, насмешника, дамского угодника. Одевался он более элегантно, чем другие русские, что бывали у Марии Давидовны, зимой и летом носил гетры. Раз я видел, как Мария Давидовна гладила ему шелковую рубашку. Один знакомый мне писатель, хорошо знавший эту среду, этих людей, сказал как-то, что у Кузенского душа фельетониста — не борца. Шутки его заставляли других чувствовать себя неловко. У меня с Кузенским было нечто общее: играя в шахматы, оба мы всегда проигрывали Марии Давидовне. Иногда мы садились играть против нее вдвоем. Он попыхивал папироской, мурлыкал под нос какой-то русский мотивчик, подъедая орешки и халву, что ставила перед нами хозяйка. Стакан за стаканом пил чай с лимоном. И делал один неверный ход за другим, все с шуточками да прибауточками. В его присутствии я играл еще хуже, чем обычно. Когда мы окончательно сдавались, Кузенский говорил: «Ничего, товарищ, в конце концов победим мы. День возмездия близок». Потом подмигивал Бюлову и корчил насмешливую гримасу. Это был намек: профессор верил, что в любой день в России может начаться восстание.
Кузенский да и Бюлов — оба были холостяки. По словам, которые иногда случалось обронить Марии Давидовне, а также по надписям на книгах, которые Кузенский дарил ей на день рождения, можно было догадаться, что у них роман. Что же до Бюлова, он казался страстно увлеченным этой женщиной. Не сводил с нее взгляда, просто ел глазами: глядел на нее не мигая, уставя раскосые глаза с большими мешками под ними. Прислушивался к каждому звуку, когда она на кухне заваривала чай. Мария Давидовна помогала профессору собирать материалы для его обширной монографии. Одно лишь я знал наверное: никогда не оставался он ночевать в ее квартире. Бывало, он попадался мне навстречу и в два часа ночи: спускался сверху в лифте. Лоб прорезали глубокие морщины, на приветствие не отвечал. Плоское лицо с широкими скулами принимало зеленоватый оттенок. Думается, его постоянно обуревала ревность: каждого мужчину подозревал он в том, что у того какие-то отношения с этой женщиной, и едва обуздывал свой норов — в любую минуту, похоже, готов был взорваться, а что он мог натворить со своим необузданным сибирским темпераментом — уму непостижимо.
Случалось, что Мария Давидовна приглашала меня и в отсутствие гостей. Мы играли в шахматы — я неизменно проигрывал, — а потом пили чай с вареньем, вели разговоры о сионизме, Талмуде, о литературе на идиш. Поскольку разговор шел на языке, чуждом для каждого из нас, разговоры эти были довольно поверхностны.
Мария Давидовна была образованна, много читала, знала русскую и французскую литературу. Однако у нее был весьма своеобразный склад ума — теоретика-социолога. Во всем-то пыталась она найти логику. Годы не изменили ее: она осталась столь же наивной и неопытной, какими бывают лишь в юности. Она и сейчас была как гимназистка: «барышня» — такие исчезли после Первой мировой войны. Не сомневаюсь, она и теперь вела дневник. И еще: привезла из России толстенный альбом с фотографиями, на которых в бесчисленном множестве, группами и поодиночке, стояли, сидели ее подруги, кузины, студенты университета. Большинство мужчин — с бородками. На многих черные косоворотки, подпоясанные кушаком с кисточками. Я частенько разглядывал эти фотографии и расспрашивал Марию Давидовну о тех, кто изображен на них. Она устремляла на фотографию свой близорукий взор, долго разглядывала, будто не в силах припомнить, а потом говорила: «Убит на войне» или же: «Расстрелян большевиками», «Умер от тифа».