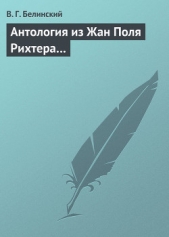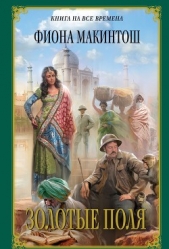Чернозёмные поля

Чернозёмные поля читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Василий едва дотащил Суровцова до церковной ограды и уложил его там, как мог покойнее. Он был так разбит, что сам едва волочил ноги. Около церкви, казалось ему, было довольно безопасно, по крайней мере, часа на два. Нести Суровцова дальше Василий совершенно не мог, да и куда было нести? Он решился оставить Суровцова и отыскать скорее его людей. Он долго бродил кругом села, не встречая никого, кроме обезумевших прилепских мужиков; много раз ноги его невольно подкашивались, и он готов был со стоном протянуться на землю; всё тело его ломило и ныло, но он превозмогал усталость и боль и бежал дальше. На выгоне Василий наткнулся на экипаж Коптевых. Четверня взмыленных рысаков, только что возвратившихся из поездки, опять явилась сюда вместе с Варею. Страшные размеры, которые принял пожар, и долгое отсутствие Нади встревожили Варю, и она поспешила в Прилепы. Въехав на выгон, он увидела Трофима Ивановича, который с толпою причитывающих баб старался привести в чувство Надю; она лежала на траве около запряжённого шарабана, ещё с закрытыми глазами, но уже начинала усиленно дышать.
В это время всё было кончено; долгий отчаянный крик спасавшегося народа долетел до выгона.
— Где же он? — спросила шёпотом Надя, полуоткрыв глаза.
— Кто? Суровцов? Он там остался, — пробормотал смущённый Трофим Иванович. — Он сейчас сюда будет.
— Он не вышел? Он не вышел? — в ужасе прошептала Надя, быстро вскочив на ноги.
Она силилась броситься к селу, но пошатнулась, не сделав ни шагу. Трофим Иванович и Варя крепко схватили её под руки. Надя была бледнее смерти.
Толпа народа хлынула на выгон. По их крику, по их отчаянию Надя поняла, что борьба кончена.
— Где ж он? — спрашивал она почти беззвучно сквозь истерически стиснутые зубы.
Смутный говор пронёсся, что Суровцов упал из окна, что его раздавило крышей. Надя не слыхала этого, но Трофим Иванович и Варя услышали. Бедный старик трясся, как в лихорадке, поддерживая Надю и стараясь её успокоить. Варя едва стояла на ногах.
В эту минуту подошёл Василий. Надя вспомнила всё и бросилась к нему.
— Василий, где он, где? Он вытащил тебя! Где он? — бормотала она, судорожно вцепившись руками за руку Василья и смотря ему в глаза с подозрительною пристальностью безумной.
— Барышня голубчик! Ногу сломал! Подле церкви лежит, подле храма Божьего! — с плачем отвечал Василий. — Посылайте, сударики, за ним поскорее, уж и то пройти нигде нельзя… всё заполыхнуло… как в горне жарко… не дайте душеньке его пропасть. Ох, наказал нас Господь!
Тонкие бровки Нади грозно сдвинулись, и всё лицо преобразилось.
— Панфил! — закричала она повелительным голосом. — Сейчас к церкви! Я сама поеду. Садись со мной, Василий! Скорее, скорее!
Трофим Иванович схватил Надю и силою оттянул её от коляски.
— Садись ты, Василий! Валяй к церкви! — скомандовал он. — Всю четвёрку погуби, только вынеси его! Без него хоть не возвращайтесь!
Надя не пыталась сопротивляться. Сил у ней не было. Лихорадочно сверкавшими глазами смотрела она вслед уносившейся коляске; запёкшиеся губы её были слегка открыты, и сквозь них страшно сверкали белые зубы, стиснутые, как у мертвеца.
— Спаси его, Панфил, спаси! — умоляла она бессильным шёпотом., когда уже Панфил скрылся в облаке пыли.
Проехать сквозь улицу села было невозможно. Оба ряда домов обратились в один сплошной костёр. И Панфил, и Василий видели это.
— Что, Мелентьич? Ведь не проехать, пропадём! — сказал Панфил. — Добро бы улица была короткая, а ведь тут полверсты огнём ехать.
— Проехать нельзя, что говорить! — поддержал его Василий, вставая в экипаже на ноги и озирая опытным глазом горящее село. — А проехать всё-таки надо. Поверни левее, на Бесчиновых проулок. Там покороче да и проулок шире, всё жечь не так будет.
— О? Проедем ли? — сомнительно спрашивал Панфил, рассматривая открывшееся перед ним устье пылающего переулка. — Ведь это всё равно, что в печь лезть.
— Разгони хорошенько, а там что Бог даст! — махнул рукою Василий.
— Ну, ну! Видно, уж не миновать, — согласился Панфил. — Господи, прости согрешения наши, не оставь наших вдов и сирот!
Он скинул шапку, перекрестился на крест церкви, подобрал вожжи, шевельнул ими, гикнул раз-другой — и четверня понеслась как угорелая. При въезде в село, где уже начинался огонь, Панфил стал беспощадно пороть кнутом лошадей, без того уже мчавшихся марш-маршем. У Василья в руках была длинная хворостина, которою он тоже безостановочно хлестал лошадей. С отчаянным гиком и свистом влетел Панфил в огненную улицу и, не разбирая ничего, через разбросанную рухлядь, через опрокинутые кадки и лавки, через обгорелые брёвна мчался к церковной площади. Коляску то и дело подбрасывало вверх. Два раза колёса переезжали трупы людей. Лошади безумели от огня, от крика, от кнута, стегавшего их без остановки и пощады. Они расстилались птицами и несли тяжёлую коляску, как ореховую скорлупу. Искры и шапки огня и дыма пролетали над четвернёй, кругом всё трещало и валилось; дым ел глаза, душил грудь.
— Гони, гони! — ободрял Василий.
Как буря, ворвалась четверня на площадь; Панфил и Василий едва в четыре руки могли сдержать ошалевших лошадей у ограды церкви.
Суровцов издалека услышал отчаянные крики Панфила и издалека увидал на красном фоне огня чёрный абрис бешено несущейся четверни. Его расстроенной фантазии она представлялась гремящею колесницей Ильи-пророка на огненных конях.
— Это ко мне, ко мне, — шептал он в детском ужасе. — Илья-пророк несётся ко мне на колеснице… За что же? Что сделал я? Но нет, это не Илья-пророк, — спохватился он через минуту. — Двое на козлах, кричат, погоняют, и лошади вороные, а не огненные. Ах, это пожарная команда, я сейчас узнал. Это третья московская часть; лошади её и брандмейстер в медной каске. Это они, они… Я горю, они затушат меня…
— Батюшка Анатолий Миколаевич! Жив ты? — радостно вскрикнул Панфил, увидя ярко освещённую огнём фигуру Суровцова. — Барышня прислала за тобой.
Суровцов не отвечал ничего, не понимал ничего и с каким-то тяжким недоумением всматривался в Панфила, в Василья, в коптевскую коляску; вороные рысаки дрожали, как в лихорадке. Они казались в мыле, но мыла не было; тяжко и быстро водили едва дышавшие кони подтянутыми животами и косились налитыми кровью глазами на бушевавший кругом пожар.
Суровцова уложили на той же перине, на которой он лежал, прикрыли другою периною и подняли верх. Один проулок, раньше загоревшийся, сильно прогорел теперь и проехать по нём было несколько безопаснее. Парфил приметил бутылку с водкой, вынесенную из лавки Скрипкина. Он пристыл к горлышку и долго пил; потом набрал водки в рот и вбрызнул в нос и в рот каждой лошади. Василий тоже пил, пока мог.
— Ну, Господи благослови! — сказал Панфил, крестясь на церковь. — Барина добыли, теперь как бы к барышне доставить. Не выдам свово барина.
Взмахнули кнуты, зашевелились вожжи, загикал, засвистал Панфил, и опять дружно рванулись и понеслись, как дикие звери, мимо горящих изб, через обгорелые обломки вспуганные кони. На завороте переулка треснула передняя ось, при выезде, заваленном брёвнами, словно ножом разрезал и шину, и обод правого колеса. Но Панфил всё летел, неистово подгоняя опьяневших лошадей, не рассматривая ничего, не останавливаясь ни перед чем.
Суровцов уже седьмой день лежал в доме Коптевых, в диванной, где он так часто проводил вечера. Диванную застлали сплошь коврами и во всех соседних комнатах разостлали, что только могли. Надю нельзя было узнать. Она ни от кого не скрывала своего отчаяния, своего страха, своей радости. Всем стало ясно, что в Суровцове вся её жизнь. До этого времени даже Варя не знала ничего верного об отношениях Нади к Суровцову; сёстры только подозревали и предчувствовали, Трофим Иванович не подозревал ничего. Теперь он, конечно, всё понял. Надю утешали, за Надей ухаживали, делали для неё всё, чего она требовала; горе было признано её собственным горем. У неё спрашивали распоряжений, позволения, что делать больному. Другим она запрещала входить к нему, когда это казалось необходимым; сама всегда была с ним. В доме состоялось безмолвное общее согласие, что Анатолий Николаевич — Надин. Но никто в этом не был убеждён так глубоко, горячо и даже заносчиво, как Надя. Словно ей было теперь досадно, почему она так долго скрывалась и не объявляла перед целым миром своих прав на сокровище. Многие приезжали навестить больного; на их недоумевающие взгляды и щепетильные намёки провинциально-светского этикета Надя отвечала такою смелою откровенностью поступков, что скандализировала всю шишовскую публику. Она была в строгом, возвышенном настроении библейской женщины, исполняющей своё призвание; перед нею были вопросы горя и счастия, жизни и смерти, — вопросы, говорившие прямо, с вечными основами духа человеческого, а её старались в эти торжественные минуты свести на детский базар уездной гостиной, в ничтожный мир булавочных сплетен, булавочных расчётов. Грозному вопросу: жить ли человеку или погибнуть — противопоставлялся вопрос: что будет говорить m-me Каншина на именинах Федосея Федосеича? Надя всегда презирала принципы салонной морали и с резкостью неиспорченной деревенской натуры выражала это презрение. Но теперь, охваченная вдохновением борьбы за спасение человека, в которого она положила все надежды и помыслы свои, она была гневна и беспощадна, как ветхозаветная пророчица. Людям, погружённым в омут пошлых формальностей и условных, бессердечных действий, со стороны не могло не казаться, что Надя компрометирует себя безвозвратно. Иногда это казалось даже её сёстрам, вообще мало разделявших предрассудки уездного общества, и они пытались, хотя осторожно, воздерживать немного Надю от её увлечения. Но это было не только бесполезно, и даже возбуждало со стороны Нади усиленный прилив упорства, словно она желала сделать вызов всем осуждавшим её, всем не понимавшим торжественной чистоты и святости её отношения к любимому человеку. Пять ночей Надя провела в комнате Суровцова на диване, почти рядом с его кроватью. Это встревожило даже Трофима Ивановича, который вообще никогда не вмешивался в поступки дочерей и доверял им безусловно. Но и его уговоры оставались тщетны. Надя с своей старой няней Сергеевной и с девчонкой Маришкой втроём ухаживали за больным и не позволяли никому другому подступать к нему ни днём, ни ночью. Эти пять дней извели Надю; она почти не ела, почти не спала, только пила. Три раза пытался Трофим Иванович вывести её из спальни Суровцова и три раза уходил ни с чем. С Надею было страшно говорить. Огонь сыпался из её глаз, из её уст. Никогда в своей жизни не видал Трофим Иванович, чтобы женщина говорила так и так делала. Ему казалось, что Надя сама в горячке, что она действует без сознания, в восторженном бреду. Он боялся противоречить ей, как боятся разбудить лунатика.