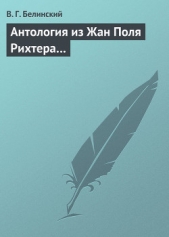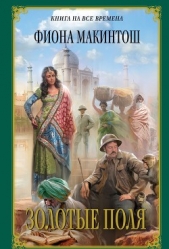Чернозёмные поля

Чернозёмные поля читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ишь, старый леший, некогда теперь казну свою спасать, спасай душу! Крыша сейчас придавит! — кричали кругом.
— Эх, ребята, да ведь жалко свово добра-то! — соболезновали другие. — Ключа-то не найдёшь второпях, а должно быть, там у него кубышка закопана.
— Да, до кубышки тут, — раздавались голоса. — Тут как бы в сорочке одной уйти, и то слава Богу! Видишь, пекло какое! Одну минуту ещё постоит — пропадёт! Старик, рубаха сейчас загорится… уж задымила…
— Эй, ребята, побегите, кто молодцом, оттащите полоумного старика, ведь он себя не помнит… Ведь стропила сейчас подломятся! — кричал Коптев.
— Теперь не пробежишь, ваше благородие! Кто своей смерти рад! — отвечали в толпе. — Гордею, видно, есть из-за чего душу губить. Небось, большие тысячи схоронены. А нам не неволя… Фомич, слышь, Фомич, уйди, сказываем, рубаха на тебе горит!
Но Фомич не оглядывался, всё бил и бил обухом в замок двери. Вдруг дверь подалась разом. Старик, согнувшись, нырнул в амбар и припал к полу; со двора видны были его худые босые ноги, обгорелые и испачканные в саже. Удары топора раздавались ещё чаще.
В эту минуту раздирающий душу вой раздался на улице. Толпа баб с лицами, обезображенными страхом и усталостью, ворвалась во двор. Это была Гордеева хозяйка с невестками. Они ходили за семь вёрст в лес собирать орехи и прибежали оттуда пешком. Кузовки и узлы с орехами ещё были у них за плечами.
— Батюшка, Гордей Фомич, отец мой родной! — вопила старуха. — Где он, мой сударик, дайте мне его, православные!
— Тащи его за ноги, бабка, а то пропадёт ни за грош! — закричали парни. — Видишь, куда залез… Клады свои достаёт.
— Сударики-голубчики! — взвизгнула старуха. — Не дайте пропасть душе христианской! Вытащите его оттуда, Христа ради!
— Да, поди-ка сунься туда, бабка! Этого и на том свете не хочется попробовать, не то что здесь.
Кто-то вомчался верхом в толпу и быстро свалился на землю.
— Ну, вот и Ванюха прискакал! Как раз поспел! — закричали в толпе.
Ванюха, бледный, покрытый пылью, озирался кругом, не зная, за что схватиться.
— А, пропала наша головушка! — крикнул он, схватив себя обеими руками за виски. — И тащить нечего. Не замай, всё пропадёт!
— Дурень, батьку тащи! Видишь, куда батька залез, — закричали ему. — Волоки его за ноги! Небось, уж он задохся там.
Ванюха глянул на пылавший амбар и вдруг бросился к нему, перескакивая через горевшие кучи соломы. Стук топора чаще и чаще слышался из амбара. Но не успел Ванюха подбежать к выбитой двери, как пылавшая крыша разом оселась сама на себя, огонь как будто провалился куда, и вместо него повалил густой чёрный дым; в то же мгновение сильный удар падающих брёвен раздался из амбара.
— Стропила обвалились! Пропал! — сказал кто-то в толпе среди внезапно наступившего гробового молчания.
При шуме падения Ванюха тоже остановился на мгновение, как вкопанный, но сейчас же рванулся вперёд, и ухватив сухие ноги, торчавшие из двери амбара, сильно потянул их к себе. Они не поддавались, словно их прищемило что, из амбара не слышалось ни голоса, ни стука топора.
— Берегись, Ванюха! На тебя валится! — раздался оглушительный крик.
Судорожно отшатнулся Ванюха, и в то же мгновение, чуть не задев его концом, тяжко рухнуло с крыши давно висевшее полуобгорелое бревно, потащив за собою на землю целую пелену соломенной крыши. Теперь не стало видно ни двери амбара, ни торчавших из неё старческих пяток. Повети и навесы стали быстро рушиться одни за другими. В этом треске и шуме мало кто слышал отчаянные стоны Гордеевых баб.
Суровцов верхом на Кречете нёсся во весь дух к горевшему селу; за ним неслась пожарная труба, запряжённая теми самыми лошадьми, которые только что возвратились в тарантасе; у Суровцова не было другой тройки. Несмотря на усталость, лошади метались, как угорелые, и даже коренник шёл вскачь вместе с пристяжными. Две бочки и багры на мужицких лошадях с толпою народа, уцепившегося за что попало, отстали на целую версту, хотя тоже скакали марш-маршем. К хутору уже незачем было ехать; к заходу солнца ветер потянул на село. Шапки огня полетели на гумна и крыши; казалось, какой-то злобный дух разрушения засел в пылавших развалинах Гордеева хутора и с роковою меткостью метал оттуда на село целым градом бомб.
Прилепы запылали разом в пяти местах.
Если бы путешественник, совсем незнакомый с Русью и русским человеком, ни по книгам, ни воочию, нежданно заехал в разгаре лета в нашу истую русскую деревню, какие можно найти только в бесконечной чернозёмной равнине хлебородных губерний, он был бы вовлечён в глубокое, но вполне простительное заблуждение. Его мечты о счастливом климате земного рая, не ведающего суровых ужасов зимы и пронзительного ненастья осени, наконец осуществлены на деле. Вот она, эта страна вечной весны! Вот они, избранники судьбы, избавленные от страданий холода, от забот о тепле. Их хижины и стойла их скота сплетены из лёгкого хворосту, из соломы; а если и срублены из брёвнышек, то таких тонких и сквозных, что вся душа видна наружи. Посмотрите, как всё разошлось по швам, повысыпалось, покривилось, пораскрылось! Завидная возможность не хлопотать о прочности, о непроницаемости. К чему она им? У них не видно даже труб на крышах, даже тех призрачных труб, которые украшают плоские кровли азиатского мусульманина или итальянского лацарони, и которыми свободно выходит вверх горсть дыма из крошечного камина. О, эти жители весны, без сомнения, никогда не нуждаются в топливе, не зная зимы. Иначе бы они, конечно, не могли обойтись без каменных стен, плотных двойных дверей, хорошо вымазанных двойных окон, высоко поднятых фундаментов и многочисленных труб, дымящих так же сильно, как фабрики лондонских предместий. Эта чуть дышащая одиночная рама из прелых тесинок, кругом пропускающая божий свет внутрь избы, рама, в которой дрожат два-три кусочка заржавевшего стекла, выбитые кружки которой гораздо более говорят о необходимости сквозного ветра, чем о необходимости тепла, конечно, была бы немыслима в стране, которая, хотя по наслышке, была знакома с морозами севера. А эти косоротые дощатые двери, кое-как сбитые, далеко разошедшиеся по швам, никогда не способные притвориться, двери, которые без всяких прелюдий, без пристенков, без блоков, без тёплой обивки, откровенно ведут с надворья прямо в жильё, конечно, возможны только в том климате, где ищут прохлады, а не тепла. Сквозные, открытые телеги, в которых нет ни одного железного гвоздя, низенькие, к земле прилёгшие сани из палок и верёвочек, — всё говорит о том же, о вечной дружбе человека со стихиями, об отсутствии всякой опасности, всякой возможности пострадать от неперестающих дождей, непроезжих дорог, невылазных снегов. И лошадь, верный спутник человека, стоит здесь круглый год без попонок, без пола, почти и без стен, и без крыши, почти без корма, если не считать за корм ржаную солому, перепревшую на дожде. Ведь в тёплом климате корм не тратится понапрасну на поддержку жизненной теплоты, как необходимо должен тратиться он на суровом севере.
Но что бы сказал такой наивный наблюдатель нашего отечества, если бы после этих аркадский мечтаний ему пришлось испытать на своей собственной шкуре, в обстановке сквозной деревенской избы, ту вечную русскую весну, которая начинается с половины сентября и кончается в половине мая. Он, без сомнения, счёл бы наш терпкий народ за стаю глупых диких животных, не умеющих и не смеющих добиваться даже тех насущных удобств жизни, без которых человек не имеет права называть себя этим священным именем. Он бы, конечно, не пожалел бедного нашего русского мужика, этот резонёр-чужестранец, неспособный уразуметь всей тяжести креста, который навалила мачеха-судьба на многострадальную мужицкую спину; он бы только осудил его своею безучастною логикой. Но мы, русские люди, пожалеем русского человека!
Русская чернозёмная деревня поразит иностранного наблюдателя не одним презрением вьюг и морозов. Она поразит его, может быть, ещё более своею отчаянною дерзостью против огня. Взгляните поумнее, что такое старое русское село, вытянувшее по кривым улицам бесконечные порядки своих тесно набитых друг на друга изб и дворов, набившее балки и скаты берегов сплошными кровлями изб, сараев, клетей и амбаров, густо перемешанных со скирдами хлеба, омётами соломы, стогами сена, кучами навоза. Тут только и есть солома, хворост и дрова. Никаких промежутков, ни садов, ни лесков, ни полян. Один громадный костёр, составленный из сотен маленьких костров, нагромождённых друг на друга, чтобы ни одному нельзя было увернуться и избежать общей участи. Ведь на людях и смерть красна. И среди каждого маленького костра, приготовленного с такой заботливостью, с таким безошибочным выбором горючего материала, нарочно помещён такой очаг огня, который особенно удачно и легко может поднять на воздух сбившиеся вокруг него кучи соломы, хворосту и навозу. Этот очаг сложен из самого дрянного кирпича, самыми неумелыми руками, по самой бессмысленной системе. Он ничем не разобщён ни от соломенной крыши, куда он без трубы выпускает горячий дым и недогоревшие искры, ни от стропил, балок и потолков, на которой лежат его треснувшие борова. Он огромен, этот страшный очаг, и его разинутая пасть вечно пылает, его хрупкие кирпичи вечно раскалены. В этой пасти варится кушанье людям, пойло скоту, моется бельё, греется щёлок, ставятся хлебы, парятся люди. Над нею греются старики и старухи, сушится пшено и замашки, под нею греются цыплята, несутся индюшки и куры. Никогда не остывает очаг, ни зимою, ни летом, ни днём, ни ночью. И когда его топят, когда кормят его поглощающую чёрную пасть — избы не видно под кучами соломы, натасканной кругом печи, кругом пылающего огня, из которого во все стороны, как выстрелы пистолета, летят горящие искры.