Немой
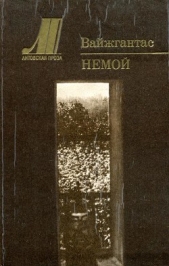
Немой читать книгу онлайн
В публикуемых повестях классика литовской литературы Вайжгантаса [Юозаса Тумаса] (1869—1933) перед читателем предстает литовская деревня времен крепостничества и в пореформенную эпоху. Творческое начало, трудолюбие, обостренное чувство вины и ответственности за свои поступки — то, что автор называет литовским национальным характером, — нашли в повестях яркое художественное воплощение. Писатель призывает человека к тому, чтобы достойно прожить свою жизнь, постоянно направлять ее в русло духовности. Своеобразный этнографический колорит, философское видение прошлого и осознание его непреходящего значения для потомков, четкие нравственные критерии — все это вызывает интерес к творчеству Вайжгантаса и в наши дни.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вот уже третью неделю Миколюкас ведет себя так: надо работать — работает, зовут есть — ест, но стоит ему остаться наедине с собой, как он тут же кладет голову на руки и сидит так до тех пор, пока брат не погонит его на работу. А не погнал бы, Миколюкас мог бы просидеть так целый день, целую ночь.
Ох, и тяжко ему было! Эх, знал бы брат хоть отдаленно, что за драму переживает сейчас «дядя», чем жертвует для их блага!
Слух о том, что к Пукштасам уже приходили сваты (для него не имело значения, кто именно), не убил Миколюкаса, а лишь парализовал подобно грозовому разряду, и поди знай, в какую землю ему зарыться, чтобы этот разряд вышел из него, чтобы Миколюкас снова стал таким же свободным, как до сих пор. Такой «земли» не было, и Миколюкас умирал медленной смертью под действием этого разряда.
Он уже умер — Миколюкас это явственно ощущал. Он чувствовал слабость во всех членах, полнейший упадок сил, ноги не носили его так легко, как прежде, руки сами не тянулись к чему-нибудь. Он умирал, продолжая бодрствовать, и еще реальнее расставался с жизнью, погружаясь в сон. Тогда он совершенно «отрешался от всего земного», уносясь далеко-далеко, в преисподнюю некрещеных младенцев, где не бывает мук, но нет и радости, где так же пусто, как и в его душе.
Удивительно, что и он поначалу не воскрешал в своем воображении образ Северии и не с ней связывал все то, что с ним сейчас происходило. Он был далеко от этой первопричины и не в ней видел корень зла, точно так же, как не считает тифозный больной виновником своих страданий микробы, возбудившие болезнь. Ну, попали они тебе в кровь, поселились и развиваются там, а ты мечешься в жару неделю, другую, третью, пока не сойдешь в могилу. Какой смысл серчать на эти микробы, коль скоро избавиться от них ты не в силах?
Домочадцам еще не доводилось видеть Миколюкаса таким. Только они, не мудрствуя лукаво, объясняли это ленью или немощью. И журили в основном за нерадивость, поскольку признаков болезни не видели: больные обычно лежат.
Призраком возникла Северия в распахнутых дверях дома Шюкштасов, присела рядом с Миколюкасом и легонько тронула его за плечо:
— Миколюк, а Миколюк, ты спишь?
Она проговорила это чуть слышно, с заговорщицким видом, прильнув к самому его уху.
Миколюкас скорее почувствовал прикосновение ее губ, чем расслышал слова, и, обведя девушку бессмысленным, бараньим взглядом, с огромным трудом поднял голову. Откинулся к стене, узнал Северию и побелел как полотно. На губах его не было и следа улыбки, которая раньше зайчиком играла, стоило ему увидеть дочку Пукштасов.
Теперь же оба они сидели понурившись. И битый час молчали, будто закапывая скорбно в сырую землю самое дорогое и светлое, что было у них на всем белом свете. Скорбя, они с почестями провожали то, что скрашивало какое-то время их безотрадные дни, облегчало, делало сносной и даже светлой их жизнь.
— Миколюкас, а я замуж выхожу… — сказала наконец Северия, будто впервые сообщала эту новость. И прибавила: — За Гейше, из Савейкяй…
— Выходишь… за Гейше… из Савейкяй… — глухим эхом повторил Миколюкас чужими, онемевшими губами.
— Спасибо тебе, Миколюкас, за твою скрипку… спасибо… большое спасибо… Ах, как чудесно ты играл…
И она всхлипнула. Ее плач напоминал бульканье варящейся в котелке картошки.
— Ты бы не мог… в последний раз сыграть на моей свадьбе?..
— Нет… нет… прости меня, Северюте… бога ради… я не смогу… Только не это, только не это!.. — запротестовал Миколюкас с несвойственным ему жаром и даже слегка оттолкнул девушку.
Он стал хватать ртом воздух, последние слова замерли у него на устах. Голова бессильно опустилась на грудь.
— Миколюк, да что с тобой, а Миколюк?.. Да ты совсем не в себе… — перепугалась Северия, и вдруг ей сделалось так жаль своего друга, что она с женской пылкостью принялась ласкать его.
Как он пригож в полузабытьи! Как красив его тонкий профиль, и как юн и белолиц сам Миколюкас. Она только сейчас заметила, как он осунулся за последние недели. Будто снятый с креста великомученик: столько страдания в его полураскрытых губах.
Как безумная, она стала целовать его, прижимать к себе, прося в душе прощения за причиняемую боль. Она гладила Миколюкаса по лицу так ласково и любовно, что ему показалось это поцелуем ветерка. Перебирала пальцами его волосы, отводя пряди с покрытого испариной лба и не давая им снова упасть назад. И вновь целовала его щеки, лоб, губы.
Северия повторяла уроки, преподанные ей Гейше. Раполасу она не отвечала любовью на самые пылкие ласки. Все, что они пробудили в ней, принесла она сейчас тому, кому, по всей вероятности, была предназначена провидением. Она безраздельно отдавала себя Миколюкасу и, пожелай он только — отдалась бы ему.
Миколюкас между тем просветлел, на губах его заиграла прежняя улыбка, глаза подернулись прежней мечтательной дымкой — и снова он стал существом не от мира сего, обитателем своего королевства грез, которые мы называем на прозаический лад поэзией, ибо не чувствуем, не понимаем ее сути. Блаженная душа, что и говорить! Он еще раз перенесся в сотворенную им же обитель, и этого ему хватило с избытком, настолько, что он даже отдаленно не почувствовал нужды в возвращении на землю за тем, что ему причитается. Нет, он не был способен отплатить своей мечте тем же, чем и Раполас.
И все же на любовь Северюте он откликнулся всем своим существом. Ничего подобного он не испытал за всю свою жизнь. Ему почудилось, будто разверзлись небеса и дали ему отведать своих яств. Это послужило для него как бы символом того, что он никогда больше не покинет горние выси, не вернется к земным невзгодам и горестям. Он чувствует и, пожалуй, весь свой век будет ощущать нежность ладоней любимой, жар ее пылающей щеки, которой она прижималась к его щеке. Он чувствовал и поэтому вовек не забудет, как она прижималась к нему своей девичьей грудью, как обнимала его за шею. Каждый ее поцелуй был для него еще одним флёром, окутывающим его воздушный замок, и замок этот поднимался выше и выше, ширясь и обретая прочность. И как же счастлив он был впоследствии, всю свою жизнь, что не разменял этот замок на что-нибудь подешевле, чего ему хватило бы лишь на короткое время!
Они поднялись со скамьи, Миколюкас выпрямился — сейчас он был так хорош, так одухотворен — ни дать ни взять архангел небесный. Лицо его дышало вдохновением, казалось, только Моисеевых рогов и не хватает. Глаза сияли неземною любовью и прощением всему, что есть земное.
— Прощай, Северюте! Спасибо тебе большое за все! И все-таки я на твоей свадьбе сыграю… В последний раз поиграю — только для тебя, как я играл всю жизнь: только для тебя да еще для солнца… и еще для леса… для луга…
И заключив ее в объятия, он по-мужски крепко-крепко стиснул ее, крепко-крепко поцеловал в самые губы.
Гейше ни разу не поцеловал ее так. От его поцелуев у нее темнело в глазах, от Миколасовых — светлей становилось. С тем было беспокойно, с этим — хорошо-хорошо, так хорошо, что вряд ли забудется.
Северия уходила из дома Шюкштасов без слез — Миколюкас не задерживал ее, провожая к двери; бог подогнал их в пару, да только жизнь развела. Нет, не соперник Миколас ни Гейше, ни кому-либо другому.
В воскресенье Миколюкас сопровождал Гейше и Северию через все местечко в костел, затем назад — на постоялый двор, и ничего при этом не видел, ничего не слышал. Он выполнял свое обещание — еще раз, самый последний, поиграть на ее свадьбе и никому не признался, чего ему это стоит. Он играл для Северии, для той, которой играл в низине, для той, которая так дорого заплатила ему за музыку, один-единственный раз в жизни приласкала, приголубила; для той единственной, которую он любил всю свою жизнь, продолжает любить и никогда-никогда не разлюбит.
Возвратились домой. Северия, отныне уже сноха, повязала Миколюкасу на шею самую красивую пестротканую ленту-шарфик, зеленую-презеленую, всю в желтых и алых цветах — аужбикайский луг, да и только. Это за музыку.


























