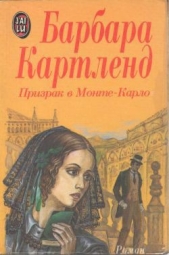Трагическая идиллия. Космополитические нравы ...
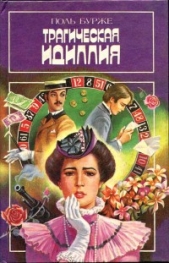
Трагическая идиллия. Космополитические нравы ... читать книгу онлайн
Известные французские писатели прошлого столетия представлены в этой книге двумя новыми для нашего читателя романами, которые при всей несхожести сюжетов, стилистики, места и времени действия объединяет их общий главный герой — ЛЮБОВЬ! Идиллическая, пылкая любовь красавицы-аристократки и молодого, неискушенного человека, интриги и ненависть деспота-мужа, яростная ревность задушевного друга, потревожившие полную праздности, роскоши и покоя жизнь великосветского кружка в Каннах и Монте-Карло, — составляют содержание романа Поля Бурже. Книга рассчитана на массового читателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда я была молода, я любила в Заллаше садиться на плохо объезженных лошадей и доканчивала их выучку. Для моих отношений к Оливье я не могла подобрать лучшего сравнения, как эти поединки с конями, которые стараются to get the best of you[13], как говорят англичане. Повторяю тебе: я вполне уверена, что не любила его, но я не вполне уверена, что не ненавидела его…
Она говорила с напряжением, которое показывало, до какой степени эти воспоминания задевают в ней самые глубокие струны. С минуту она помолчала. Подруги сидели подле куста роз; баронесса сорвала цветок и нервно стала губами ощипывать с него лепестки, между тем как госпожа Брион, глубоко вздохнув, вымолвила:
— Разве могу я осуждать тебя за то, что ты искала счастья вне брака и натолкнулась на этого человека!.. Это чудовище эгоизма, жесткости, капризности!..
— Я не судья ему, — возразила госпожа де Карлсберг. — Если бы я сама была иной, то я, без сомнения, переделала бы его. Но он пробудил во мне только эгоистичные инстинкты. Я желала удержать его, укротить, покорить и употребила для этого страшное орудие: я возбуждала в нем ревность… Из всего этого вышла грустная история, от подробностей которой я избавлю тебя. Мне ужасно было бы вспоминать их, да они не важны. Тебе будет достаточно, если я скажу, что в конце концов, после бурной недели, за которой последовал возврат такой нежности, какой я в нем прежде не замечала, в один прекрасный день Оливье покинул Рим неожиданно, без всяких объяснений, без последнего прости, без всякого письма. С тех пор я ничего больше о нем не слышала, если не считать случайного разговора нынешней зимой, откуда я узнала, что он женился… Вот и все!
Она умолкла, потом снова заговорила с мягкой интонацией, которая подчеркивала разницу между воспоминаниями, встававшими перед ней раньше, и воспоминаниями, к которым она приступала теперь.
— Теперь ты поймешь, какое странное впечатление испытала я, когда два месяца тому назад Шези попросил у меня разрешения представить мне брата подруги своей жены, приехавшего в Канны для поправления здоровья, весьма замкнутого, очень милого, которого он назвал Пьером Отфейлем. Во время бесконечных разговоров, которые мы вели с Оливье в промежутках между ссорами, часто произносилось это имя. Тут мне необходимо объяснить тебе еще одну вещь, совершенно личного и притом странного характера: как говорил этот человек и какую необыкновенную притягательную силу имели для меня его слова.
Это загадочное и замкнутое существо переживало иногда целые часы абсолютной откровенности, когда сердце раскрывалось у него так, как ни у кого другого. Выходило, как будто он вслух переживал свою жизнь вместе со мной, а я слушала его с любопытством, тоже беспристрастным. В такие моменты он проливал неумолимый свет и на других, и на самого себя, свет, который возбуждал в вас желание кричать, как при хирургической операции, и который в то же время гипнотизировал вас своим режущим интересом. Когда он говорил о себе, то это бывало такое жестокое и вместе с тем тонкое обнажение его детства и юности, с такими яркими образами, что даже в настоящее время те или другие личности, которых знал он один, вырисовываются передо мной, как будто я встречалась с ними в действительной жизни.
А он сам! О, какая странная, односторонняя и возвышенная душа, такая благородная и павшая, такая чуткая и сухая! В ней все, казалось, сводилось к дряхлости, истрепанности, грязи и разочарованности! Да, все, кроме одного только чувства. Этот человек, который презирал свою семью, который о родине говорил не иначе, как с раздражением, который объяснял все поступки и свои и чужие непременно дурными побуждениями, который отрицал Бога, отрицал добродетель, любовь, словом, этот анархист в нравственном смысле, столь похожий на эрцгерцога многими сторонами натуры, имел одну веру, один культ, одну религию: он верил в дружбу, по крайней мере, в дружбу мужчины к мужчине, потому что он не допускал, чтобы женщина могла быть другом женщины.
Он не знал тебя, дорогая Луиза… Он утверждал — я отлично вспоминаю его собственные слова, — что между двумя мужчинами, которые изведали друг друга, которые жили, чувствовали, страдали вместе и которые любят и уважают друг друга, устанавливается некоторое чувство, столь возвышенное, столь глубокое, столь благородное, что ничего нельзя сравнить с ним. Он говорил, что это единственное чувство, которое он уважает, единственное, против которого бессильны годы и бури житейские. Он сознавался, что такая дружба редка, что, однако, он сам встречал несколько примеров ее, что у него самого есть такой друг.
И вот тогда он вызывал перед собой образ Пьера Отфейля. Его интонации, его взор, выражение лица — все изменялось, когда он останавливался на воспоминании об этом отсутствующем друге. Он, человек, насквозь проникнутый иронией, рассказывал мне с нежностью и вместе с уважением целый ряд наивных подробностей первой их встречи в коллеже, зарождения их товарищеских отношений, детских вакаций! Он рассказывал мне про энтузиазм, который в 1870 году заставил их вместе собраться на войну, про их общие опасности, их общий плен в Германии. Он до бесконечности восхвалял мне душевную чистоту своего друга, тонкость его ума, благородство…
Я уже сказала тебе, что этот человек оставался для меня загадкой. И больше всего загадочным бывал он в эти часы откровенности о прошлом, когда я с изумлением, почти ошеломленная, констатировала странную аномалию: в этом сердце, таком истрепанном, таком пустом, на этой бесплодной почве — расцвет чувства до такой степени тонкого, юного, редкого, что оно напоминало мне нашу дружбу с тобой. Несмотря на парадокс Оливье, это лучшая похвала, которую я могу ему сделать.
— Благодарю, — сказала госпожа Брион, — мне стало легче. Слушая тебя сначала, я думала, что говорит совсем другой человек, совершенно мне незнакомый. Но снова нашла тебя, такую же любящую, сердечную, добрую…
— Добрую? Я вовсе не добрая, — отвечала баронесса Эли, качая головой. — Доказательством то, что, как только Шези произнес имя Пьера Отфейля, мной овладела злая мысль. Ты найдешь ее унизительной. Но я поплатилась за нее, может быть, слишком дорого. Сначала отъезд Оливье, а затем его женитьба подняли во мне целую тучу ненависти, о которой я тебе только что говорила. Поверишь ли? Я не могла вынести, что этот человек покинул меня и что теперь он счастлив, спокоен, равнодушен, что он устроил свою жизнь, а я не отомщена.
Когда человек долго остается в таком положении, в котором была я — несчастная, отчаявшаяся среди декорума счастья и роскоши, — тогда у него в сердце нарастают темные силы. Чрезмерность душевных мук портит человека в конце концов. Когда я узнала, что скоро встречу задушевного друга Оливье, то мне пришла в голову возможность мести, мести утонченной, жестокой и верной. Конечно, я и Дюпра были далеко друг от друга. Он, очень возможно, и забыл про меня. Но я ни минуты не сомневалась, что если я влюблю в себя его друга и если он узнает про это, то это поразит его сердце самым чувствительным образом. И вот почему я согласилась на то, чтобы мне представили Отфейля, почему я кокетничала с ним, за что ты меня упрекаешь. Да, сознаюсь, я начала с простого кокетства… Боже, как это близко!.. И как это далеко!..
— А Пьер Отфейль? — перебила госпожа Брион. — Он знает о твоих отношениях с Оливье?
— Ах! — отвечала госпожа де Карлсберг. — Ты касаешься самого больного места. Он этого не знает, как не знает всей низменной действительности жизни. Ведь этой-то свежестью натуры, этой-то простотой сердца, о которой столько говорил мне тот, другой, этой-то юностью и покорил меня ребенок, с которым я хотела так жестоко поиграть. Ты не можешь понять этого. Ты, всегда сохранявшая чувства, которые и должна была сохранять, ты не поймешь, что значит постоянно подавлять в себе добрую, доверчивую, увлекающуюся душу и вдруг почувствовать, как эта душа пробуждается в тебе… Думаешь, что никогда уж больше не полюбишь. Думаешь и желаешь быть сухой, бездушной, злой…