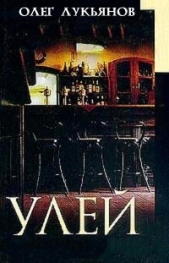Том 5.Рассказы 1860-1880 гг.
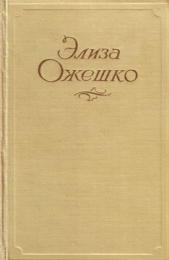
Том 5.Рассказы 1860-1880 гг. читать книгу онлайн
В 5 том собрания сочинений польской писательницы Элизы Ожешко вошли рассказы 1860-х — 1880-х годов: «В голодный год», «Юлианка», «Четырнадцатая часть», «Нерадостная идиллия», «Сильфида», «Панна Антонина», «Добрая пани», «Романо?ва», «А… В… С…», «Тадеуш», «Зимний вечер», «Эхо», «Дай цветочек», «Одна сотая».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В героя лихорадочно поглощаемых мною книжек я влюбился более страстно, чем когда-либо влюблялся в какую-нибудь женщину. Одна встреча с начертанием его имени производила на меня впечатление электрическаго удара. В течение целых дней я на мельчайшие атомы разбирал его жизнь и душу, и при этом меня по временам охватывала такая экзальтация, что я чувствовал и себя готовым и способным сделать то, что сделал он, хотя не имел ни малейшаго представления, зачем, для чего и каким образом это могло бы произойти. Вот эта-то неуверенность собственно и приводила меня в отчаяние. Я испытывал такое чувство, как будто я в обеих руках держал какое-то огромное и совершенное нечто; при этот мною овладевала невыразимая скука.
Я видел себя в образе ребенка, пускающего мыльные пузыри и забавляющегося ими, покуда они не лопнут, а потом пускающаго другие и так далее, и так далее, от рождения до самой смерти, да и чтобы другое…
Когда я один раз подумал, что если как-нибудь иначе… то расхохотался и назвал себя идиотом. Не записаться ли мне учеником в какую-нибудь школу или не начать ли пахать ниву моих предков? Может быть, поступить в монахи? Это последнее, по самой своей оригинальности, понравилось мне больше всего, но тут я не видал никакой цели. Вместо кутежей — праздность, вместо страсбургскаго пирога — кусок скверно зажареннаго мяса. Не стоит хлопот.
Если б я в то время услыхал бы о каком учителе над учителями, ходящем по свету и набирающем себе учеников, то пал бы к его ногам. Не улыбайтесь, доктор, — вспомните Магдалину… Мне не перед кем было преклоняться, не за кем было идти, а сам я не мог отважиться ни на один самостоятельный шаг. После двухнедельнаго смятенея и внутреннего разлада, я на все махнул рукой, приказал уложить свои вещи и поехал в Египет, с которым еще не был знаком. Меня очень интересовало это путешествие, жаль только, что я внес в него смутное, затаенное чувство сознания своего глубокаго несчастия.
VI
Когда я, три года тому назад, возвратился в свои имения с намерением пробыть в них (в первый раз) несколько месяцев и с надеждой устроить дела, которыя приходили все в больший упадок, то почувствовал себя, — и совершенно ясно, — несчастным. Пустота жизни очень чувствительным и досадным образом начала сливаться с пустотою кармана, и это в одинаковой степени удручало меня. Кроме того, вначале меня мучила та болезнь, которая теперь приходит к концу, и к концу приводить меня самого, а перспектива прожить несколько месяцев в пустыне, как вы это легко можете представить, нимало не исправляла расположения моего духа.
Что делать здесь? Чем жить и чем заслужить самого себя так, чтобы самого себя не чувствовать? Сначала у меня было намерение взять с собою сюда кого-нибудь из тех, кого я больше любил там, но когда я начал выбирать, то пришел к заключению, что все они были мне близки и очень приятны в куче, а в отдельности каждый представлялся таким далеким и скучным, что его присутствие причинило бы большие неприятности и вовлекло бы в большие расходы, чем доставило бы удовольствия. А здесь я не знал никого, ни близких, ни дальних соседей и не чувствовал ни малейшей охоты свести с ними знакомство. Я не был в состоянии взяться ни за что, ни за чтение, ни за работу, вообще, ни за что, существующее под солнцем. Повар у меня, как всегда, был превосходный, но аппетит слабый, лошади в моей конюшне были хорошия, даже очень хорошия, но их некому было показывать; хорошенькия девчонки, дочери моих служащих, то и дело сновали по двору и по саду. Сначала я было обратил на них внимание, но тотчас же заметил, что хотя платья на них надеты модныя, зато почти в трауре, и эта дисгармония отвратила меня от них окончательно.
Как великолепную иллюстрацию к этой главе моей жизни, я видел перед собою безконечные разговоры и совещания с управляющими, уполномоченными, с добрыми родственниками, которые обещали то ли советами, то ли деньгами приити ко мне на помощь, наконец, с кредиторами, которые на первое время, вероятно, щадя мою историческую фамилию, оставили меня в покое под дедовской кровлей, но потом, — я это ясно предчувствовал, — должны были слететься на эту кровлю, как коршуны на падаль…
Как же я мог при этой обстановке не чувствовать себя несчастным? Я валялся в постели до полудня, потом блуждал по заброшенному и пустому дому, брал в руки какую-нибудь книжку и бросал ее, курил сигары до тех пор, пока не прокоптился в их дыме. Но чаще всего я лежал на диване, с лицом, обращенным к потолку, и с руками закинутыми за голову, в которой складывалось единственное, но необыкновенно могущественное желание, чтобы мне можно было впасть в безчувственность и неподвижность индийскаго факира, чтоб в моем рту и в носу гнездились пчелы. При таком условии я был бы полезен хоть какому-нибудь существу, а сам перестал бы чувствовать тяжесть собственной персоны и ея неслыханнаго несчастия.
Так прошло несколько дней, как вдруг я невольно взглянул в окно и испытал такое чувство, как будто мне улыбнулось нечто прекрасное. А это был прекрасный осенний день. Я схватил шляпу, быстро миновал двор, потом какой-то кусок поля и еще какой-то кусок луга и, наконец, вошел в лес, который, по совету моего дяди, должен был продать, чтоб освободиться от части самых назойливых долгов. Но пока он еще стоял и его-то вид, в соединении с мягким светом солнца и плавающим по лесу серебром паутины, вытянул меня на эту прогулку и дал мне достаточно твердости для этого.
Я не хочу сказать, чтоб я пришел в восторг и удивление от красот природы. Правда, я не раз удивлялся и восхищался ею; для того, чтобы видеть ее, пробирался вдоль пропастей, карабкался на головокружительныя высоты, спускался в бездны, но все это делал, во-первых, в молодости, а во-вторых — в Альпах, в Пиринеях, на Рейне или на Дунае.
В этот день в моей голове не было мыслей о каких бы то ни было удивлениях или восторгах, потому что и голова эта чувствовала себя уже старою, это — раз, а во-вторых, я знал, что на этой плоской и прозаичной земле я не увижу ничего прекраснаго.
Самое же главное то, что мне было решительно все равно.
Инстинктивно я заметил, что погожий осенний день улыбается мне, инстинктивно пошел к нему навстречу; инстинктивно почувствовал, что на лугу мне будет легче, что я вздохну свободно, что моя голова перестанет болеть.
Я снял шляпу и с открытой головой вошел в лес, где сильное благоухание сосен, чабера и других видов лесной растительности так захватило мое дыхание, что я почувствовал стеснение в груди.
Иногда, дорогой доктор, бывает такая осень, когда все расцветает вновь и когда, хоть не надолго, все вновь пахнет весною. Я помню, что когда глубоко вдохнул лесное благоухание, то в глубине груди почувствовал боль, и понял, насколько моя грудь была измучена. В то время мне было двадцать девять лет. Но в глазах у меня делалось ясней, и вдруг они встретились с великолепной осиной, которая глухо шумела волнами кровавых, дрожащих листьев. Потом я увидал распростертый на серых мхах черныя и испещренныя красными ягодами ветки брусники, а между ними гроздья желтых безсмертников и снежные пушки лесного клевера. Какая-то птица, довольно большая, зашелестила в кустах, а когда я поднял голову, то увидал только ея голубыя и зеленоватыя крылья, исчезающия за желтыми листьями стараго дуба. Я чувствовал, что смесь разнообразнейших красок, из которых одни были необыкновенно ярки, а другия удивительно изящны и тонки, начинает доставлять удовольствие моему взгляду, как вдруг увидал и услышал что-то такое, что доставило мне еще большее удовольствие. Невдалеке от меня, за редко сидящими деревьями виднелись большие кусты папоротника, которые представляли из себя все оттенки багрянца, начиная от колера тела до окраски ореха. Вероятно, это была очарованная заросль, потому что когда я смотрел на нее, в ея глубине раздалось пение… Ах, не думайте, чтоб оно имело какое-нибудь сходство с пением морских или неморских сирен. Правда, голос был женский, но в нем не слышалось ни молодости, ни свежести, ни тоскующаго сердца, ни меланхолии. Скорее в нем чувствовалось две вещи, о которых мы думаем, что оне никогда не ходят в паре: старость и веселье. Самым забавным было то, что старый, дрожащий голос, поющий на веселый мотив, выходил неизвестно откуда и от существа совершенно невидимаго. Точно сами папоротники пели песенку, которую я потом заучил на память. Я еще и теперь помню ея слова и мотив: