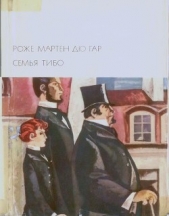Семья Тибо, том 2

Семья Тибо, том 2 читать книгу онлайн
Роман-эпопея классика французской литературы Роже Мартен дю Гара посвящен эпохе великой смены двух миров, связанной с войнами и революцией (XIX – начало XX века). На примере судьбы каждого члена семьи Тибо автор вскрывает сущность человека и показывает жизнь в ее наивысшем выражении жизнь как творчество и человека как творца.
Перевод с французского Инн. Оксенова, Д. Лившиц и Н. Жарковой.
Примечания М. Машкина и И. Подгаецкой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Даниэль вытащил из кармана пачку жевательной резины и предложил Антуану.
– Нет, спасибо.
– Все-таки развлечение, – объяснил Даниэль. – Я бросил курить.
Он взял резинку, положил в рот и начал медленно жевать.
Антуан, улыбаясь, глядел на него.
– Вы напомнили мне один фронтовой случай… В Виллер-Бретонне… Мы разместили наш госпиталь на ферме, которую перед тем занимал американский санитарный отряд. Наши санитары буквально весь день отбивали молотками целые наслоения этой самой жвачки, которую грязнули американцы поприклеивали всюду – к плинтусам, к дверям, к столам, к скамейкам… И она твердеет, как цемент, эта пакость… Если англосаксонская оккупация продлится еще несколько лет, все здания в Артуа и Пикардии потеряют свои первоначальные очертания и превратятся в бесформенные нагромождения жевательной резины… Легкий приступ кашля прервал его слова. – Подобно тому, как некоторые скалы на Тихом океане превратились в горы гуано!
Даниэль улыбнулся, и Антуан, который так же, как и Жак, всегда поддавался прелести этой улыбки, с радостью заметил, что она не утратила своего обаяния, несмотря на расплывшиеся черты лица, верхняя губа при улыбке все так же медленно и лукаво ползла влево, а в полузакрытых глазах вспыхивал насмешливый огонек.
Антуан все еще кашлял. Потеряв надежду отдышаться, он нетерпеливо махнул рукой.
– Вы сами видите, каким старым кашлюном я стал, – с трудом вымолвил он. Потом, передохнув немножко: – Они здорово нас отделали, как говорит Клотильда. Но мы, разумеется, еще находимся в числе привилегированных!
С минуту оба помолчали. На сей раз молчание прервал Даниэль.
– Вот вы меня спросили, читаю ли я газеты. Очень редко. Я слишком много думаю о войне. Ни о чем другом думать я не могу… Читать сводки, когда знаешь так, как это знаем мы, что должно означать: "Некоторое оживление на таком-то фронте…" или: "Удачная атака на участке…" Нет! – Он откинул голову на спинку шезлонга и, закрыв глаза, продолжал вполголоса: – Надо самому пережить атаку, и пережить ее в пехоте, чтобы понимать… Пока я был в кавалерии, я не знал, что такое война. А ведь я ходил тогда в атаку раза три… И об этом тоже не расскажешь… Но все это ничто по сравнению с атакой пехоты с "вылазкой" в заранее назначенный час, с штыковой атакой. Он вздрогнул, открыл глаза и пристально посмотрел перед собой, яростно жуя свою резинку, потом проговорил: – В сущности, сколько нас таких в тылу, которые знают, что такое война? Те, что вернулись, – сколько их? Да и к чему они станут рассказывать? Они не могут, не хотят ничего говорить. Они знают, что их не поймут.
Даниэль замолчал, и некоторое время оба сидели, не говоря ни слова, даже не глядя друг на друга. Потом заговорил Антуан, слабым голосом, прерываемым приступами кашля.
– Бывают минуты, когда я стараюсь убедить себя, что это действительно последняя, что после такой войны новые войны невозможны, да, невозможны. Временами я в этом уверен… Но в иные моменты начинаю сомневаться… Перестаю понимать…
Даниэль молча двигал челюстями, рассеянно глядя по сторонам. О чем он думал?
Антуан замолчал. Даже короткий разговор утомил его. Но он возвращался мыслью все к тому же, в сотый, в тысячный раз.
"Охватывает ужас, когда хладнокровно взвешиваешь все, что препятствует установлению мира между людьми, – думал он. – Сколько веков пройдет еще, прежде чем нравственная эволюция – если только нравственная эволюция вообще существует – излечит человечество от врожденного преклонения перед грубой силой, от того фанатического наслаждения, которое испытывает человек, человек как разновидность животного мира, – торжествуя с помощью насилия, с помощью насилия навязывая свое мироощущение, свое представление о жизни другим, более слабым, тем, что чувствуют иначе, живут иначе, чем он!.. И потом существует политика, правительства… Для правителей, которые развязывают войну, для людей власти, которые решают, быть войне или нет, и делают ее руками других, война останется всегда легким, даже соблазнительным выходом в минуты любого краха. И можно ли надеяться, что правительства никогда не прибегнут к этому? Ну что ж! Значит, надо добиваться, чтобы это стало для них невозможным; надо, чтобы идеи пацифизма так глубоко укоренились в общественном мнении, так широко распространились бы, чтобы стали непреодолимым препятствием для воинственной политики правителей. Но надеяться на это – химера. Да и будет ли торжество пацифизма прочной гарантией мира? Предположим даже, что в наших странах пацифистская партия придет к власти; кто поручится, что в один прекрасный день она не поддастся соблазну начать войну ради того, чтобы распространить путем насилия пацифистскую идеологию во всем мире?"
– Жан-Поль! – весело крикнула еще издали Клотильда.
Она несла на подносе миску с овсяной кашей, компот, чашку молока и поставила завтрак на столик в саду.
– Жан-Поль! – позвал Даниэль.
Мальчик со всех ног несся через площадку, залитую солнцем. Голубой джемпер, побелевший от стирки, был такого же цвета, как его глаза. Его сходство с Жаком-ребенком снова поразило Антуана, когда Клотильда сильными руками подняла мальчика и он позволил себя усадить на стул.
"Такой же лоб, – думал он. – Такой же рыжеватый оттенок волос… Такой же смуглый цвет лица, такие же веснушки вокруг наморщенного носика…" Он улыбнулся мальчику, но тот, решив, что дядя смеется над ним, отвернулся, потом, нахмурив брови, сердито взглянул на него исподлобья. Трудно было определить выражение его глаз, похожих на глаза Жака, так было оно изменчиво: то они смеялись и смотрели лукаво, то темнели гневом, то, как сейчас, становились дикими, холодными, словно сталь. Но, как ни менялось выражение глаз, взор поражал редкостной остротой, наблюдательностью.
Через освещенную солнцем площадку прошла Женни. Рукава были засучены, пальцы слегка вспухли от воды, передник намок. Она улыбнулась Антуану еле заметной, но нежной улыбкой.
– Как вы провели ночь? Нет, у меня руки мокрые… Хорошо спали?
– Гораздо лучше, чем обычно, благодарю вас.
Глядя на расцветшую в материнстве, пополневшую Женни, так просто занимавшуюся домашним хозяйством, Антуан вдруг вспомнил скрытную, сдержанную девушку в строгом английском костюме темного сукна и в перчатках, такую, какую Жак привел к нему на Университетскую улицу в день мобилизации.
Она повернулась к Даниэлю.
– Будь добр, покорми его сам. Я еще не развесила белье. – Она подошла к сыну, подвязала ему салфетку и поцеловала в тоненькую птичью шейку. Жан-Поль будет умником, дядя Дан покормит его. Я сейчас приду, – добавила она, уходя.
– Хорошо, мама (он произносил "ма-ма", отчетливо разделяя слоги, совсем как в свое время Женни и Даниэль).
Даниэль поднялся с шезлонга и сел рядом с мальчиком. Он, по-видимому, мысленно продолжал беседу, потому что, как только Женни отошла, сказал, будто их и не прерывали:
– И еще есть одно, о чем невозможно говорить, чего никогда не постигнут здесь, в тылу: то чудо, которое совершается всякий раз, как человек попадает в зону огня. Прежде всего – чувство высшего освобождения, которое дается безраздельным подчинением случаю, тем, что выбор заказан и любое проявление индивидуальной воли упразднено; и потом, – продолжал он дрогнувшим голосом, который выдавал волнение, – чувство товарищества, братства, которое поголовно устанавливалось там, когда всем грозила опасность… Вот вам доказательство моей правоты; стоило нам отойти в тыл на какие-нибудь четыре километра, чтобы снова стать обыкновенными людьми.
Антуан молча кивнул. О войне он вынес воспоминание прежде всего как о грязи и крови. Но он понимал, что хотел сказать Даниэль. Он тоже наблюдал это "чудо", это таинственное рождение братства воинов в зоне огня, это очищение личности, стремительное формирование коллективной и братской души под бременем общего рока.
Жан-Поль, притихший в присутствии Антуана, молча глотал кашу, которой его кормил дядя; видно было, что Даниэлю не внове обязанности няньки. Не прерывая разговора, он ловко подносил к широко открытому рту ребенка полную ложку.