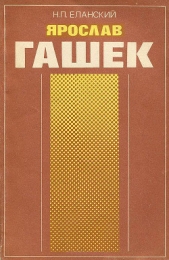Чешские юмористические повести

Чешские юмористические повести читать книгу онлайн
В книгу вошли произведения известных чешских писателей Я. Гашека, В. Ванчуры, К. Полачека, Э. Басса, Я. Йона, К. М. Чапека-Хода, созданные в первой половине XX века. Ряд повестей уже издавался в переводе на русский язык, некоторые («Дар святого Флориана» К. М. Чапека-Хода, «Гедвика и Людвик» К. Полачека, «Lotos non plus ultra» Я. Йона) публикуются впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Дамы оживленно заговорили о детях и прислуге, о том, кто в городе собирается жениться или выходить замуж.
Мужчины принялись обсуждать непорядки в ратуше и болезнь местного священника, давно страдавшего от камней в почках.
— У меня всегда были очень неглупые служанки, но я и платила им порядочно,— сказала пани Мери.
— А наша Барча,— пожаловалась супруга директора,— до того бестолковая, тут она мне как-то положила…
Я слушал с большим интересом, и даже позволил себе высказать собственное мнение на этот счет.
— Мне кажется, милые дамы,— вступил я в разговор, заказав новую порцию бадачонского,— что у умной женщины обязательно должна быть глупая служанка, а у глупой — совсем дуреха, только тогда они будут ладить между собой. Из этого вытекает, что когда новое общество вырвет нашу деревню из вековой отсталости, а инженеры и техническая интеллигенция обеспечат ее всеми достижениями науки и техники, в полном соответствии с энергетическими принципами, которые являются для нас наивысшими законами вообще,— решительно все деревенские девушки будут умными и образованными. Институт прислуги должен отмереть! Не пугайтесь, милые дамы! Современная цивилизация, творящая чудеса — трансатлантические лайнеры на турбинах, аэропланы, взлетающие в стратосферу, небоскребы,— заменит ручной труд электрическими роботами!
Воцарилась тишина; затем голос подал управляющий:
— К вопросу о технических достижениях! Вы знаете, господин писатель, о медовухе упоминается уже в «Краледворской рукописи» {126}, в песне «Людиша и Любор», где рассказывается о пиршестве у князя Залабского, во время которого слуги разносили кушанья заморские и питье медовое, и потому все пировали весело и шумно…
— Об этом я не знал.
— Я, господин писатель, уже тридцать лет изготовляю медовуху по старочешскому рецепту. Меня награждали и серебряными, и бронзовыми медалями! Я позволил себе сунуть в карман вашего пальто бутылочку, чтобы вы попробовали.
— Огромное вам спасибо, огромное спасибо! — я пожал пану управляющему руку.
И мы оба громко рассмеялись.
И все это благодаря тебе, Петрик Гадрбольцев, ведь ты не просто сам встал на ножки, ты поставил на ноги меня, да и всех членов культурной общины города.
В тот памятный день ты впервые проявил себя как настоящий мужчина, каким и повелел тебе быть дух земли, зачав тебя под материнским сердцем и поместив на нашей планете, чтоб ты жил, дышал, и главное действовал; ты, как говорит в эту минуту твоя бабушка, удивительное творение природы, ты прелестный карапуз, представляющий со своим «уа, уа» сложнейшую гносеологическую загадку!
Видел бы ты, Петрик Гадрбольцев, наши разрумянившиеся лица, слышал бы наш оживленный разговор о пчелах, о некой Мане, которая так долго выбирала женихов, что перестаралась и должна была в результате выйти за бродягу без роду и племени. Слышал бы ты, как дружно мы осуждали сварливую экономку пана священника, которая, будучи и сама лишь тварью божьей, на других живого места не оставит.
Спасибо тебе, Петрик, Милосердный Искупитель! Спасибо!
Смотри-ка, все уж и забыли, что я «маэстро», и считают меня человеком, и поверяют мне свои тайны, и открыто говорят в моем присутствии о своих делах, с радостью убеждаясь, что и я, как это было видно из моего молчаливого участия, а теперь из страстных речей,— люблю ребятишек, пчелок и всяких зверюшек, вполне одобряю вязанье свитеров и даже могу посоветовать, как лучше чистить керамическую посуду.
В честь тебя, Петрик Гадрбольцев, я заказываю еще порцию бадачонского, встаю и торжественно произношу тост за твое здоровье, расчудесный ты парень, цветочек из садика самого черта — я поднимаю бокал за здоровье твоих родителей и твоей счастливой бабушки, за здоровье уважаемой супруги управляющего и, и, конечно же, за все семьдесят пять ульев и за итальянских пчел моего друга пана управляющего, за драгоценные страдиварки, за всю музыку скопом и за музыкально-педагогический талант пана директора школы, за самоотверженного пана секретаря, знатока здешних достопримечательностей, пана Гимеша, а в первую очередь — за пани Мери, оказавшую мне столь радушный прием и усиленно потчевавшую меня — теперь я открою почтенной публике маленький секрет — именно тем, чего я терпеть не могу: чесночной похлебкой, ливером и медовой халвой, но она в этом совсем не виновата, виноват я сам, вздумавший подшутить над паном секретарем — простите меня, пан Гимеш, простите, уважаемая пани Жадакова, что вы, что вы,— ах, это все пустяки, разрешите поднять бокал за здоровье всех присутствующих, за ваше здоровье!
Видел бы ты, Петричек, как была потрясена пани Мери.
Слышал бы ты, как все хохотали, когда я демонстрировал свой мокрый карман! Мы до того разошлись, что на нас с любопытством стала поглядывать вся пивная: что это там происходит, за столом культурной общины? Мы так шумели, что лесничие in corpore [80] поднялись и подошли к нам с пол-литровыми кружками пива и рюмками сливовицы, во главе со своим патриархом дядюшкой Сейдлом и белокурой Властичкой, к которой все время клеился какой-то малый с черными усиками. Музыканты грянули туш, и мы выпили — дай бог вам здоровья — траляля, траляля,— здесь нас двое, здесь нас два; я то и дело лез обниматься с пани Мери, а она и думать забыла про свои морщинки и свою прическу, про свое лицо, как у китайского императора, только посмеивалась и, очень довольная, ворковала: «Проказник, оставьте меня — шалун вы этакий!»
И вдруг повелительный женский голос громко прокричал на весь ресторан:
— Барышни! Не-мед-лен-но домой!
Это подоспела директорша интерната.
Я уже не помню, кому принадлежали руки, подхватившие меня в ресторане. Неожиданно для себя я очутился на тихой площади, где все мы долго и нежно прощались друг с другом.
Гораздо более отчетливо я помню, что один карман моего пальто оттягивала бутылка медовухи, а другой — тетрадь лирических стихов и египетские пирамиды. Помню, как пан секретарь Гимеш и пани Мери вели меня под руки, а я орал: «Он играет на дуде, на дуде, на дуде — пустите меня, о достопочтенная графиня из замка! Не дотрагивайся до меня, благородный паж Гимеш! {127}»
Когда мы подошли к дому, я заметил в окне первого этажа свет и, вырвавшись из рук своих провожатых, забарабанил кулаком по оконной раме:
— Отомар, ночная кикимора, ты был неправ! Ты неправ! Берегись же, сейчас я вырву твою гриву — слышишь ты, нескладная лошадь?
Меня втащили в ворота, проволокли по лестнице, а я воинственно размахивал правой рукой:
— Ты неправ, тысячу раз неправ, голова садовая, прав Петрик Гадрбольцев, дядюшка Сейдл, правы пчелки — божьи детки…
Вдруг я оказался в полном одиночестве, посреди какой-то освещенной комнаты.
— …к черту эстетику! Pereat [81] вся литературная парфюмерия, ха-ха-ха! Вот увидишь, Отомар, как я переверну всю чешскую литературу, отброшу ее в эпоху варварства, как я буду хихикать над клоакой вульгарностей, как реабилитирую я фразу и банальность, потому что они частица нашей жизни и без них мы законченные трр-тррупы!

Закачавшись, я схватился за кровать.
— Именно! — громко произнес я, еле удерживаясь на ногах.