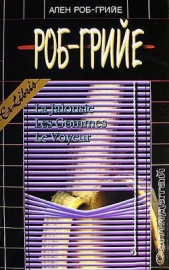Соглядатай (сборник)

Соглядатай (сборник) читать книгу онлайн
"Соглядатай" - роман, занимающий особое место в многообразном, многоуровневом творчестве В. Набокова. Практически впервые здесь набоковская проза, обычно - холодно-изящная, становится нервной, захлебывающейся, угловатой. Экспрессионистская ли эстетика довлеет здесь над "вечной" для писателя темой эмигрантской трагедии - или, напротив, тоска выломившейся из прошлого и утратившей надежду на будущее "России в изгнании" задает неровный, "дерганный" ритм повествования? Мнений может быть много, но - какое из них верное? Решите сами...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И она опять улыбалась, старательно и смешно поднимая брови, словно приглашая меня улыбнуться тоже, но я уже был сам не свой, вокруг меня летала какая-то немыслимая надежда, я продолжал быстро говорить и все время двигал руками, плечами, так что скрипела подо мной плетеная ручка кресла, и мгновениями Ванин шелковый пробор оказывался у самых моих губ, и тогда она осторожно отклоняла голову.
“Больше жизни, — говорил я поспешно. — Больше жизни, и уже давно — с первой минуты. И вы первый человек, который сказал мне, что я хороший...”
“Пожалуйста, не надо, — просила Ваня. — Вы только себе делаете больно, и мне тоже. Я вам лучше расскажу, как Роман Богданович мне объяснялся в любви. Это было уморительно...”
“Не смейте, — крикнул я. — При чем этот шут? Я знаю, я знаю, что вы были бы счастливы со мной. И, если вам что-нибудь во мне не нравится, я изменюсь, как вы захотите, я изменюсь”.
“В вас мне все нравится, — сказала Ваня. — Даже ваше поэтическое воображение. Даже то, что вы иногда преувеличиваете. А главное, ваша доброта, — ведь вы очень добрый, и очень любите всех, и вообще вы такой смешной и милый. Но все-таки, пожалуйста, перестаньте меня хватать за руку, а то я просто встану и уйду”.
“Значит, все-таки есть надежда?” — спросил я.
“Никакой, — сказала Ваня. — Вы же отлично сами знаете. И он сейчас должен прийти”.
“Вы его не можете любить, — закричал я. — Это обман. Он недостоин вас. Я бы мог вам рассказать про него ужасные вещи...”
“Ну, довольно”, — сказала Ваня и хотела встать. Но тут, желая остановить ее движение, я невольно и неудобно ее обнял, и, от ощущения сквозного шерстяного тепла ее кофточки, во мне забурлило мучительное и мутное наслаждение, я готов был на все, на самую отвратительную пытку, — но я должен был хоть раз ее поцеловать.
“Почему вы сопротивляетесь? — лепетал я. — Что вам стоит? Для вас это маленький акт милосердия, а для меня — все”. Ей удалось высвободиться и встать. Она отошла к перилам балкончика, покашливая и щурясь на меня, и где-то в небе наметился ровный, струнный звук, заключительная нота. Мне уже нечего было терять. Я ей высказал все до конца, я кричал, что Мухин не любит, не может ее любить, я быстро осветил чудесную перспективу нашего возможного счастья вдвоем, и, наконец, почувствовав, что сейчас разрыдаюсь, бросил с размаху об пол книгу, которую почему-то держал в руках, и, повернувшись, навсегда оставил Ваню на балконе, вместе с ветром, вместе с мутным весенним небом, вместе с таинственным басовым звуком невидимого аэроплана.
В гостиной, неподалеку от двери, сидел Мухин и курил. Он проводил меня глазами и спокойно сказал: “Какой вы, однако, негодяй”. Я холодно ему кивнул и вышел.
Вернувшись вниз к себе, я взял шляпу и поспешил на улицу. Зайдя в первый попавшийся цветочный магазин, я стал постукивать каблуком и громко посвистывать, так как в магазине никого не было. Прелестно и свежо пахло цветами, что почему-то усиливало мое нетерпение. В зеркальном стекле сбоку от выставки продолжалась улица, но это было продолжение мнимое: автомобиль, проехавший слева направо, вдруг исчезал, хотя улица невозмутимо его ждала, исчезал и другой, ехавший ему навстречу, — ибо один из них был только отражением. Наконец, явилась продавщица. Я выбрал большой букет ландышей: с их тугих колокольчиков капала вода, у продавщицы безымянный палец был обмотан тряпочкой, вероятно укололась. Она ушла за прилавок и долго возилась, шуршала бумагой. Связанные стебли образовали что-то толстое и твердое, я никогда не думал, что ландыши могут быть такие тяжелые. Взявшись за дверную скобку, я увидел, как сбоку в зеркале поспешило ко мне мое отражение, молодой человек в котелке, с букетом. Отражение со мной слилось, я вышел на улицу.
Торопился я чрезвычайно, семенил, семенил, в облачке ландышевой сырости, стараясь ни о чем не думать, стараясь верить в чудную врачующую силу той определенной точки, к которой я стремился. Это был единственный способ предотвратить несчастье: жизнь, тяжелая и жаркая, полная знакомого страданья, собиралась опять навалиться на меня, грубо опровергнуть мою призрачность. Страшно, когда явь вдруг оказывается сном, но гораздо страшнее, когда то, что принимал за сон, легкий и безответственный, начинает вдруг остывать явью. Надо было это пресечь, и я знал, как это сделать.
Дойдя до моей цели, я стал звонить, не переводя духа, звонил так, словно утолял нестерпимую жажду, долго, жадно, самозабвенно звонил. “Будет, будет, будет”, — забормотала она, открывая мне дверь. Я переметнулся через порог и сразу сунул ей в руки купленный для нее букет. “Ах, — сказала она. — Как красиво!” — и, немного оторопев, уставилась на меня своими старыми, бледно-голубыми глазами. “Не благодарите меня, — крикнул я, стремительно подняв руку, — но вот что: позвольте мне взглянуть на мою бывшую комнату, умоляю вас”. “Комнату? — переспросила старушка. — Простите, она, к сожалению, не свободна. Но как красиво, как мило...” “Вы не совсем меня поняли, — сказал я, дрожа от нетерпения. — Мне просто хочется взглянуть. Только это. Больше ничего. Вот я принес вам цветы. Я прошу вас. Ведь жилец, вероятно, на службе...”
Ловко ее миновав, я побежал по коридору, а она за мной. “Боже мой, комната сдана, — повторяла старушка. — Доктор Гибель съезжать не собирается. Я не могу вам ее сдать”.
Я рванул дверь. Расположение мебели было несколько изменено; другой кувшин стоял на умывальнике; а за ним в стене я нашел тщательно замазанную дырку, — да, я ее нашел и сразу успокоился, глядел, прижав руку к сердцу, на сокровенный знак моей пули: она доказывала мне, что я действительно умер, мир сразу приобретал опять успокоительную незначительность, я снова был силен, ничто не могло смутить меня, я готов был вызвать взмахом воображения самую страшную тень из моей прошлой жизни.
С достоинством поклонившись старушке, я вышел из этой комнаты, где некогда какой-то человек, согнувшись вдвое, отпустил смертельную пружину. Проходя через переднюю, я заметил на столе мой букет и, словно в рассеянии, на ходу прихватил его, подумав, что тупая старушка мало заслужила такой дорогой подарок и что можно иначе его применить, послать его, например, Ване с запиской, полной грустного юмора... Влажная свежесть цветов была мне приятна, тонкая бумага местами разошлась, и, сжимая пальцами холодное зеленое тело стеблей, я вспоминал журчание, сопроводившее меня в небытие. Я шел не спеша по самому краю панели и жмурился, представляя себе, что иду над бездной, и вдруг меня сзади окликнул голос:
“Господин Смуров”, — сказал он громко, но неуверенно.
Я обернулся на звук моего имени, причем одной ногой невольно сошел на мостовую. Кашмарин, Матильдин муж, сдергивал желтую перчатку, страшно спеша мне протянуть руку. Он был без пресловутой трости и как-то изменился, — пополнел что ли, — выражение у него было смущенное, он показывал крупные, тусклые зубы, одновременно скалясь на строптивую перчатку и улыбаясь мне. Наконец ко мне хлынула его растопыренная рука. Я почувствовал странную слабость и умиление, даже защипало в глазах. “Смуров, — сказал он, — вы не можете представить себе, как я рад, что вас встретил. Я вас искал, как безумный, никто не знал вашего адреса”.
Тут я спохватился, что слишком любезно слушаю это приведение из моей прошлой жизни, и, решив немного его осадить, сказал: “Мне не о чем с вами говорить. Будьте еще благодарны, что я не подал на вас в суд”. “Смуров, — протянул он виновато, — я ведь прошу у вас прощения за мою подлую вспыльчивость. Я не находил себе места после нашего... крупного разговора. Я ужасался. Разрешите мне признаться вам, как джентльмен джентльмену: я ведь потом узнал, что вы были не первым и не последним, и я развелся, да, я развелся”.
“Между нами не может быть никаких разговоров”, — сказал я — и понюхал мой толстый, холодный букет.
“Ах, не будьте так злопамятны, — воскликнул Кашмарин. — Ну, ладно, — ударьте меня, двиньте хорошенько, а затем давайте мириться. Не хотите? Вот, вы улыбаетесь, — это хорошо. Не прячьте лицо в ландыши, — вы улыбаетесь. Итак, мы теперь можем говорить, как друзья. Разрешите мне вас спросить, сколько вы зарабатываете?”