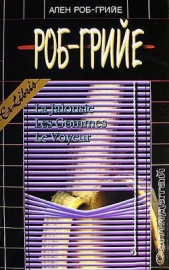Соглядатай (сборник)

Соглядатай (сборник) читать книгу онлайн
"Соглядатай" - роман, занимающий особое место в многообразном, многоуровневом творчестве В. Набокова. Практически впервые здесь набоковская проза, обычно - холодно-изящная, становится нервной, захлебывающейся, угловатой. Экспрессионистская ли эстетика довлеет здесь над "вечной" для писателя темой эмигрантской трагедии - или, напротив, тоска выломившейся из прошлого и утратившей надежду на будущее "России в изгнании" задает неровный, "дерганный" ритм повествования? Мнений может быть много, но - какое из них верное? Решите сами...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Погода изменилась к худшему или вернее сказать к лучшему, — ибо не суть ли эти слякоть и ветер предзнаменования весны, милой маленькой весны, которая даже в сердце пожилого человека будит неясные желания? Мне приходит в голову афоризм, который несомненно...”
Я просмотрел письмо до конца. Больше ничего не было для меня интересного. Легко кашлянув, недрожащими руками, я аккуратно сложил странички.
“Конечная остановка, сударь”, — сказал надо мною суровый голос.
Ночь, дождь, городская окраина...
ГЛАВА 6
Смуров, в замечательной черной дохе с дамским воротником, сидит на ступенях лестницы. Вдруг к нему спускается Хрущов, тоже в дохе, и садится с ним рядом. Смурову очень трудно начать, но время мало, надо решиться. Он высвобождает тонкую белую руку с переливающимися перстнями — все рубины, рубины — из мехового рукава и, пригладив пробор, говорит: “Я хочу кое-что вам напомнить, Филипп Иннокентьевич. Пожалуйста, слушайте внимательно”. Хрущов кивает, сморкается, — у него сильный насморк от постоянного сидения на лестнице, — кивает опять, шевеля опухшим носом. Смуров продолжает: “Я буду говорить о небольшом инциденте, происшедшем недавно. Пожалуйста, слушайте внимательно”. “Я к вашим услугам”, — отвечает Хрущов. “Мне трудно начать, — говорит Смуров. — Я могу выдать себя неосторожным словом. Слушайте внимательно. Слушайте меня, пожалуйста. Мне важно, чтобы вы поняли, что я возвращаюсь к этому инциденту без всякой задней мысли. Мне и в голову не может прийти, что вы считаете меня вором. Согласитесь сами, что знать это я не могу, ведь я чужих писем не читаю. Я хочу, чтобы вы поняли, что наш разговор совершенно случаен... Вы слушаете?” “Продолжайте”, — говорит Хрущов, кутаясь в доху. “Итак, Филипп Иннокентьевич, давайте вспомним. Вспомним, как вы мне дали табакерку. Вы меня просили ее показать Вайнштоку. Слушайте внимательно, Филипп Иннокентьевич. Уходя от вас, я держал ее в руках. Нет, нет, пожалуйста, не читайте азбуки, я могу говорить и без азбуки... И вот — я клянусь, клянусь Ваней, клянусь всеми женщинами, которых любил, клянусь, что каждое слово того, чье имя я произнести не могу, — иначе вы подумаете, что я читаю чужие письма, а потому способен и на воровство, — клянусь, что каждое его слово ложь, — я действительно ее потерял. Я пришел к себе, и ее не было, я не виноват, я только очень рассеян, и я так люблю ее”. Но Хрущов не верит, он качает головой, и напрасно Смуров клянется, напрасно заламывает белые, сверкающие руки, — все равно, нет таких слов, чтобы убедить Хрущова. (И тут мой сон растратил свой небольшой запас логики: лестница, на которой происходил разговор, уже высилась сама по себе, среди открытой местности, и внизу были сады террасами, туманный дым цветущих деревьев, и террасы уходили вдаль, и там был, кажется, портик, в котором горело сквозной синевой море.) “Да-да, — с угрозой в голосе тяжело говорил Хрущов, — в табакерке кое-что было, и потому она незаменима. В ней была Ваня, — да, да, это иногда бывает с девушками, — очень редкое явление, — но это бывает, это бывает...”
Я проснулся. Было раннее утро. Стекла дрожали от проезжавшего грузовика. Окно давно не бывало покрыто поволокой лилового румянца, — ибо приближалась весна. И задумался я над тем, как много произошло за это время, — и сколько новых людей я узнал, и как увлекателен, как безнадежен сыск, мое стремление найти настоящего Смурова... Что скрывать: все те люди, которых я встретил, — не живые существа, а только случайные зеркала для Смурова, но одно существо среди них — самое важное для меня, самое ясное зеркало — все еще отказывалось выдать мне смуровское отражение. Легко и совершенно безобидно созданные лишь для моего развлечения, движутся передо мной из света в тень жители и гости пятого дома по Павлиньей улице. Опять Мухин, приподнявшись с дивана, тянется через стол к пепельнице, но ни его лица, ни руки его с папиросой я не вижу, а вижу только другую руку его, которой он — уже, уже бессознательно! — опирается на мгновение о Ванино колено. Опять лицо Романа Богдановича, бородатое, с двумя красными яблоками вместо скул, наливается и дует над чаем, и опять Марианна Николаевна закидывает ногу на ногу, худую ногу в абрикосовом чулке. И в шутку, — в Сочельник, кажется, — напялив котиковую шубу жены, Хрущов перед зеркалом принимает витринные позы и ходит по комнате при общем смехе, который становится понемногу неестественным, оттого что балагур Хрущов всегда слишком растягивает шутку. И прелестная маленькая рука Евгении Евгеньевны, с блестящими, словно мокрыми ногтями, берет лопатку для игры в пинг-понг, и целлулоидовый мячик с трогательным звуком пенькает через зеленую сетку. И в полутьме проплывает Вайншток, сидя за спиритическим столиком, как за рулем; и опять сонно проходит из двери в дверь и вдруг начинает шептать и поспешно раздеваться горничная Гильда или Гретхен. По желанию моему я ускоряю или, напротив, довожу до смешной медлительности движение всех этих людей, группирую их по-разному, делаю из них разные узоры, освещаю их то снизу, то сбоку... Так, все их бытие было для меня только экраном.
Но вот, в последний раз жизнь сделала попытку мне доказать, что она действительно существует, тяжелая и нежная, возбуждающая волнение и муку, с ослепительными возможностями счастья, со слезами, с теплым ветром. Я поднялся к ним в полдень, и комнаты были пусты, и окна были раскрыты, и где-то жадным, страстным жужжанием исходил пылесос. И вдруг из гостиной, сквозь стеклянную дверь на балкон, я увидел склоненную Ванину голову; Ваня сидела с книгой на балконе, и — как ни странно — это было первый раз, что я заставал ее одну. С тех пор, как я заглушал свою любовь при помощи мысли, что и Ваня, как все другие, только воображение мое, только зеркало, — я усвоил с ней особый тончик, и теперь, здороваясь, я сказал без всякого стеснения, что она “как принцесса, смотрит на весну с высокой башни”. Балкон был совсем маленький, с пустыми, зелеными ящиками для цветов и с разбитым глиняным горшком в углу, который я мысленно сравнил со своим сердцем, ибо очень часто манера говорить с человеком отражается на манере мыслить в его присутствии. И было тепло, хоть не очень солнечно, а солнце и ветерок, пьяненький, но кроткий, после пребывания в каком-нибудь сквере, где уже видна молодая трава, зеленый бобрик по чернозему. Вдохнув этот воздух, я вспомнил, что через неделю — Ванина свадьба, и вот тут-то я отяжелел, опять забыл Смурова, забыл, что нужно беспечно говорить, и, отвернувшись, стал смотреть вниз, на улицу. Как мы были высоко, — и совершенно одни. “Он еще не скоро придет, — сказала Ваня. — В этих учреждениях страшно задерживают”. “Ваше романтическое ожидание...” — начал я, снова принуждая себя к спасительной легкости и стараясь уверить себя, что этот весенний ветер тоже какой-то пошленький, и что мне очень весело... Я еще не взглянул хорошенько на Ваню, мне всегда нужно было некоторое время, чтобы освоиться с ее присутствием прежде, чем посмотреть на нее. Теперь оказалось, что она в белой вязаной кофточке с треугольным глубоким вырезом, и прическа особенно гладкая. Она продолжала смотреть сквозь лорнет в раскрытую книжку, — и как мы были высоко над улицей, прямо в нежном шершавом небе, и пылесос в комнатах перестал жужжать. “Дядя Паша умер, — сказала она, подняв голову. — Да. Сегодня пришла телеграмма”.
Какое мне было дело до того, что окончилось существование этого веселого, полоумного старика? Но при мысли, что вместе с ним умер самый счастливый, самый недолговечный образ Смурова, образ Смурова-жениха, я почувствовал, что уже не могу сдержать давно поднимавшееся во мне волнение. Не знаю точно, с чего началось, были вероятно какие-то подготовительные движения, но помню, что я очутился сидящим на широкой плетеной ручке Ваниного кресла и уже сжимал ей кисть, — давно снившееся, запретное прикосновение. Она сильно покраснела, и вдруг ее глаза загорелись слезами, — я так явственно видел, как темное нижнее веко налилось блестящей влагой. Одновременно она улыбалась, — как будто хотела сразу мне дать с невиданной щедростью все выражения своей красоты. “Да, ужасно жалко его”, — говорила она, но я ее перебил: “Так дальше нельзя, нельзя выдержать, — забормотал я, то хватая ее за кисть, сразу напрягавшуюся, то поворачивая покорный лист книги у нее на коленях, — я должен вам сказать... Теперь все равно, я уйду и больше никогда вас не увижу. Я должен вам сказать. Ведь вы меня не знаете... Но право же, я ношу маску, я всегда под маской...” “Господь с вами, — сказала Ваня. — Я очень вас хорошо знаю, и все вижу, и все понимаю. Вы — хороший, умный человек. Подождите, я возьму платочек. Вы на него сели. Нет, он упал. Спасибо. Пожалуйста, оставьте мою руку, не надо меня так трогать. Ну, пожалуйста”.