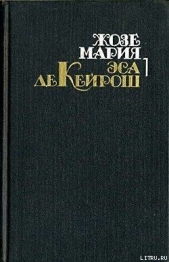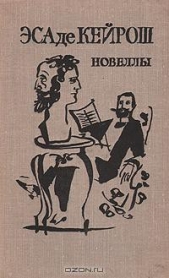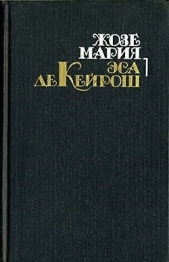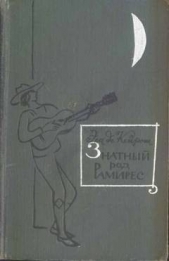Преступление падре Амаро. Переписка Фрадике Мендеса

Преступление падре Амаро. Переписка Фрадике Мендеса читать книгу онлайн
Жозе Мария Эса де Кейрош (1845–1900) – всемирно известный классик португальской литературы XIX века. В романе «Преступление падре Амаро» Кейрош изобразил трагические последствия греховной страсти, соединившей священника и его юную чувственную прихожанку. Отец Амаро знакомится с очаровательной юной Амелией, чья религиозность вскоре начинает тонуть во все растущем влечении к новому священнику...
Образ Карлоса Фрадике Мендеса был совместным детищем Эсы де Кейроша, Антеро де Кентала и Ж. Батальи Рейса. Молодые литераторы, входившие в так называемый «Лиссабонский сенакль», создали воображаемого «сатанического» поэта, придумали ему биографию и в 1869 году опубликовали в газете «Сентябрьская революция» несколько стихотворений, подписав их именем «К. Фрадике Мендес».
В издание вошли романы португальского писателя Эса Де Кейрош (1845-1900) «Преступление падре Амаро» и «Переписка Фрадике Мендеса».
Вступительная статья М. Кораллова, примечания Н. Поляк.
Перевод с португальского Г. Лозинского, Н. Поляк, Е. Лавровой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Не поручусь за точность моих воспоминаний об этих прекрасных образах. После того августовского вечера у Мартиньо «Лапидарии» не попадались мне на глаза. Собственно говоря, мне понравилась в них не столько тема, сколько форма, ярко пластичная и полная жизни; в ней было что-то от мраморной чеканки Леконта де Лиля [175] – только в жилах этого мрамора струилась более жаркая кровь; и в то же время строки эти дышали в напряженном, нервном ритме бодлеровского [176] стиха, но звучали более мерно и гармонично. Дело в том, что как раз в 4867 году мы с Ж. Тейшейрой де Азеведо и другими товарищами обнаружили на небосводе французской поэзии (единственном небосводе, к которому устремлялись наши взоры) целую плеяду новых светил, среди которых выделялись своим особенным и несравненным блеском два солнца: Бодлер и Леконт де Лиль. Виктор Гюго, которого мы уже называли просто «Стариком» или «Гюго-вседержителем», был для нас не обычным светилом, но самим господом богом, изначальным и имманентным, дарующим свет, скорость и период обращения небесным телам. А Леконт де Лиль и Бодлер представляли собой два созвездия, сверкавшие у его ног удивительным сиянием. Встреча с ними была для нас откровением, подобным первой любви. Нынешняя позитивная, деловая молодежь, которая интересуется политикой, следит за биржевым курсом и читает Жоржа Он [177] э, едва ли поймет священный трепет, с каким мы принимали причащение к этому новому искусству, возникшему во Франции вместе со Второй империей [178] на развалинах романтизма, как последнее его превращение. В поэзии это новое направление воплотили Леконт де Лиль, Бодлер, Коппе, [179] Дьеркс, [180] Малларме [181] и другие, менее замечательные поэты. Едва ли поймет наше увлечение и та часть теперешней образованной молодежи, которая со школьной скамьи питается Спенсером и Тэном [182] и подвергает неутомимой, проницательной критике те области искусства, которые в нас, более наивных и более пылких, вызывали одно лишь волнение души.
Я и сам не могу теперь без улыбки вспоминать вечера в комнатушке у Тейшейры де Азеведо, когда, дрожа от восторга, я оглашал ночь строфами из «Падали» Бодлера, повергая в смятение и ужас двух каноников, живших за стеной:
Слышно было, как за перегородкой скрипели кровати священников, тревожно чиркали спички. А я, бледный как полотно, трепеща в экстазе, гремел:
Вероятно, из-за Бодлера не стоило трепетать и бледнеть. Но всякое искреннее преклонение само по себе прекрасно и не зависит от истинных заслуг божества, которому воздается. Две ладони, сложенные для молитвы в порыве непритворной веры, всегда будут трогать душу – даже если они простираются к такому вздорному и фальшивому кумиру, как, например, святой Симеон Столпник. [185] Наш восторг был чистосердечен; породила его радость обретенного идеала; он был подобен восторгу мореплавателей-испанцев, когда им довелось впервые ступить на неведомую землю, на берег волшебного Эльдорадо, страны наслаждений и сокровищ, где даже в блестевшей на солнце прибрежной гальке им чудились россыпи алмазов.
Я где-то читал, что Хуан Понсе де Леон, [186] наскучив бурыми равнинами Старой Кастилии и не находя прежнего очарования в темно-зеленых садах Андалузии, пустился странствовать по морям, чтобы найти новые земли и mirar algo nuevo. [187]
Три года бороздил он наудачу угрюмые воды Атлантики; долгие месяцы блуждал в туманах Бермудских островов; всякая надежда иссякла, и потрепанные корабли уже готовились повернуть обратно к оставленным вдали берегам Испании. И тогда-то, под ослепительным утренним солнцем, в день святого Хуана, перед восхищенной эскадрой предстала Флорида во всем ее великолепии… Слезы потекли по седой бороде капитана. «¡Gracias te sean dadas, mi S. Juan bendito, que he mirado algo nuevo!» [188] Хуан Понсе де Леон умер от радости. Мы не умерли. Но слезы, подобные тем, что пролил старый мореход, брызнули у меня из глаз, когда мне впервые открылся сумрачный блеск и терпкий аромат «Цветов зла». Уж такие мы были в 1867 году!
Надо, впрочем, сказать, что я тоже, как Понсе де Леон, искал в литературе и поэзии только новизны, стремился увидеть algo nuevo. A что могло быть ново для двадцатилетнего южанина, ценившего превыше всего краски и звуки во всей их полноте, как не роскошная, нежданная форма? Новая, непривычная красота формы – вот что по-настоящему составляло для меня тогда, в пору впечатлительной юности, главную приманку и главную заботу. Конечно, идею в ее чистой сущности я тоже боготворил; но еще больше – слово, выразившее ее! В «Une charogne» [189] Бодлер показывает своей возлюбленной гниющие останки собаки [190] и приравнивает их к смертному телу красавицы, видя и в том и в другом одинаково бренную плоть, – и это было для меня великолепной, восхитительной неожиданностью. Что представлял собой рядом с этой страдальческой утонченностью чувствований устарелый и примитивный Ламартин, [191] сравнивающий нежное лицо возлюбленной с блеклым ликом луны? Но если бы жестокий и мрачный спиритуализм Бодлера был выражен гладким, вялым слогом Казимира Делавиня, [192] те же стихи показались бы мне ничуть не лучше виршей из «Памятного альманаха». [193]
«Лапидарии» Фрадике Мендеса попались мне на глаза именно в то время, когда я был всецело поглощен чувственным обожанием формы. Я увидел в них слияние двух взаимоисключающих качеств: величавого покоя и нервной чувствительности, составлявших (по крайней мере, так мне казалось) славу двух моих кумиров: автора «Цветов зла» и автора «Варварских поэм». Мало того: к моему вящему восторгу, поэт «Лапидарии» был португальцем; материалом для его мастерской чеканки послужил язык, на котором до тех пор не было создано ничего значительнее «Обручения в могиле» [194] и «Аве, Цезарь» [195] (единодушно признанных жемчужинами отечественной поэзии). Автор «Лапидарии» жил в Лиссабоне, входил в число наших молодых поэтов, и, несомненно, душа его, а может быть, и образ жизни были столь же оригинальны, как стихи.
Так смятый номер «Сентябрьской революции» стал для меня открытием в искусстве, провозвестием новой поэзии, призванной озарить давно желанным светом и согреть своим теплом юные души, окоченевшие в дремоте под белесой луной романтизма. Спасибо тебе, благословенный Фрадике, за то, что на моем старом языке мне довелось прочесть algo nuevo! Помнится, в порыве признательности я пробормотал вслух эти слова и, захватив номер «Сентябрьской революции», побежал к Ж. Тейшейре де Азеведо в переулок Гуарда-Мор, чтобы возвестить ему чудесное событие.