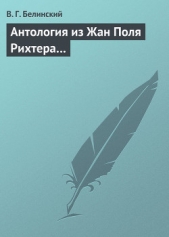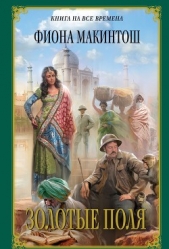Чернозёмные поля

Чернозёмные поля читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вы правы, Варвара Трофимовна: у нас найдутся люди с головою,но они умны и практичны только в своих собственных делах. Таких людей очень немало, почти все. А вот доброта — другое дело! Добрых побуждений почти не встречаешь даже в личных отношениях, между родными, между друзьями; всё больше злорадство, зависть. Уж не говорю о более строгих требованиях. На поступки истинного великодушия и самоотвержения наталкиваешься с изумлением. Признаюсь, мне тяжело убеждаться в этом. Я давно знаю, что высокие дела и высокие характеры — редкость. Но всё-таки везде, где я жил до сих пор, я видел вокруг себя хотя небольшую группу людей, которые были способны на истинно человеческие поступки. Первый раз в жизни мне приходится действовать среди такой безрадостной духовной пустыни. Пошлость, бездушность, бессодержательность такие повальные, что могут запугать робкого. Но особенно поразительно, что в целом обществе не жило и не живёт ни одной истинно общественной идеи. Вот уж во всей буквальности уездное болото! Ни одна мысль не останавливается на вопросах народной нужды и народной пользы. Интересы общества для них то же, что интересы городского клуба. Собраться выпить вместе чаю или водки, поиграть вместе в карты, вместе поплясать и посплетничать — вот общественная жизнь по убеждению уездной интеллигенции. Вы говорите, объясниться с ними. Боже мой, да неужели вы думаете, что я мог не объясняться? Я не читал им ни лекции, ни проповеди, но я, разумеется, силился затронуть в них те струны, звука которых я не слыхал, а желал услышать. Но разве вложишь в зрелого, установившегося человека то, чего в нём никогда не было, да ещё не в единичного человека, а в целое сплотившееся общество, давно и крепко укоренившееся в своих вкусах и взглядах? Расшатать сколько-нибудь заметно эти взгляды в силах только такая властительная и грозная рука, какая держала дубинку Петра Великого. Нужно было гению явиться во всеоружии непреклонного самодержца, чтобы всколыхнуть застывшее болото азиатской жизни. И только всколыхнуть! И с какими ещё жертвами, и с каким вредом! Гению и самодержцу вместе — легко сказать! И всё-таки, несмотря на громадность потраченных сил, сделать так мало сравнительно с тем, что нужно было сделать. Подумайте, с каким снисходительным презрением это общество должно было смотреть на моё разноречие с житейскими правилами! В этом деле, в деле общего греха, оно является всегда необыкновенно единодушным, необыкновенно стойким. Это единственное знамя, способное его одушевить к борьбе с врагом. Если я говорю с посредником об анархии в крестьянском управлении, о необходимости защитить работающего человека от разных официальных эксплуатаций, посредник смотрит мне подозрительно в глаза и старается смекнуть, за что я в претензии на него. Если не отыскивается ничего правдоподобного, он меняет точку зрения и сообщает по секрету другим, что я человек крайне беспокойный и властолюбивый, сую свой нос туда, где меня не спрашивают, и что беда вообще с этими учёными умниками, которые стараются забрать всё в руки и всем наделать неприятностей. Другой точки зрения, кроме личной, у него нет и быть не может. Все они таковы. Раз я что-то сообщил нашему доброму старичку-исправнику касательно проказ станового, выходивших из всякого предела, — что же вы думаете? Исправник выслушал все мои рассуждения, не давши себе даже труда опровергать их или соглашаться с ними; он их слушал, но, конечно, не слышал, потому что они ему были решительно не нужны. Он смотрел на них, как на известную manière de parler, свойственную учёным людям, а доискивался, как и посредник, до сути, до того, за что я сердит на станового! Ей-богу, правда! После я узнал, что он призывал станового и очень заботливо расспрашивал его, не сделал ли он мне какой неприятности? О деле же, о котором я сообщал, ни слова. И становой вполне разделял убеждение своего начальника, и порывшись в памяти, действительно набрёл на причину моего «притеснения». «Это точно, Семён Иванович, — ответил он с догадливою усмешкою: — немножко был виноват; тычки меня тогда просили по дороге ихней поставить, ну, а я запамятовал; вот за то и серчают. Да сегодня же народ сгоню, живо поставят!» — успокоивал он исправника. «Уж я знаю, что есть что-нибудь, — подозрительно заметил исправник. — Вы знаете, как нужно с этими людьми. Из-за пустяков историю поднимать!» И все, все таковы. Убеждайте их тут. У них просто не достаёт органа чувств для понимания общественных интересов. А у самих нет, не могут и в другом предположить, всех меряют на свой аршин.
— Я дохожу до малодушия, Анатолий Николаевич! — сказала Надя. — Я никогда не думала, чтобы люди были так дурны. чтобы на свете было так скверно. Но я вижу, что вы правы, когда вспомню и обдумаю всё, что делается кругом нас. Сколько нужно иметь терпения для такой безнадёжной борьбы! Если вы имеет его, я завидую вам.
— Лета, Надежда Трофимовна; с летами придёт и терпение. Я старше вас. В груди и у меня не особенно спокойно, но голова — владыка, её надо слушать. Я никогда не забываю, что долг человека делать, а не говорить. А делать иначе нельзя.
— Иначе нельзя, я согласна с вами. Меня убедил в этом пожар, на котором вы сломали ногу. Если бы я могла быть хладнокровнее, я была бы кому-нибудь полезна. Но меня душили мои чувства, и дела не было. Я была глубоко пристыжена тогда своим бессилием. Мне казалось, что это удел женщин — трепетать и бездействовать. Но мне не хочется помириться с этим. Это слишком оскорбительно. Если бы это было действительно так, лучше уж не жить.
— Нет, это не так! По крайней мере, это не должно быть так и у вас это так не будет! — с тёплой улыбкой добавил Суровцов. — Вы почти дитя., Надежда Трофимовна, но в вас глядит человек дела, а не праздных волнений.
И Суровцов действовал, как говорил. Он привык верить безошибочному методу наук и прежде всего постарался ограничить и вполне определить свою задачу. Он знал, как бесплодно расплываться вширь и преследовать цели, несообразные с средствами, как бы ни манили они его. Оттого и положил он основным камнем своего дела устройство сельских училищ в Шишовском уезде. в заранее предназначенном числе и по заранее выработанному им типу. В медицину он мало верил и ценил в народе его неиспорченность аптекарскими ядами гораздо более, чем его веру в докторов и лекарства. Когда земские врачи, недавно покинувшие студенческие скамьи, приставали к нему с разными требованиями дорого стоящих средств, в которые они непоколебимо верили, как в спасительные талисманы, Суровцов раздражал их своей скептической улыбкою и своим упорным несочувствием к предмету их воодушевления.
— Да, господа, вы напрасно обижаетесь, — говорил он им. — Я стою против вас не во имя гомеопатии или спиритизма, или четверговой водицы. Я стою против вас во имя науки. Вы очень горячитесь и слишком верите профессорским тетрадкам. Ну разве вы в самом деле знаете, что делаете, пичкая людей ядами? Я сидел на одной скамье с многими вашими теперешними знаменитостями. Я видел, как и чему они учились. Скажу вам, что они ничего не знают. Не знают ни жизни тела, ни влияний на тело; физиологию и химию они проходили, как дети. Знают эмпирику, собрание рецептов, собрание заметок учёных знахарей. Болезни никто из вас не знает и лекарств не знает! Будьте, по крайней мере, осторожны. Поверьте, что хорошо срубленная изба, которую можно правильно натопить и проветрить, сделает для мужика больше, чем больницы, в которых умирают от одного воздуха. Если бы мы обратили больше средств и внимания на ежедневную обстановку мужика, мы могли бы смело закрыть все больницы и рассчитать всю вашу братию. Я в это крепко верю, не меньше, чем вы в йодистый калий.
Однако Суровцов не считал себя вправе подвергнуть рискованному опыту население, думавшее иначе, и очень много хлопотал об устройстве земской больницы. Он добился того, что всех крестьян принимали в неё на земский счёт, и все недоимки, числившиеся в течение многих лет на крестьянских общинах за несостоятельных крестьян, были сложены земским собранием. Больница возмущала Суровцова своим убийственным казённым характером. В ней всё было на строжайшем отчёте: управе доносилось, какая доля золотника перцу и соли расходовалась ежедневно на каждого больного и сколько кружек квасу оставалось в запасе от тридцатого сентября к первому октября; ведомостям не было числа и ни в одной их них не было ошибки ни в одной цифре; под крыльцом был постоянно рассыпан песок и в комнатах накурено можжевельником, а дежурный служитель встречал посетителей всегда в форме. Но когда приходилось вешать говядину, отпускаемую на обед, оказывалось, что её уварилось более половины и что тот же процесс варки дорого оплаченную говядину первого сорта обращал в прескверные жёсткие сухожилия. Когда приходилось справляться, часто ли парятся в бане больные мужики и бабы, привыкшие париться каждую субботу даже и здоровыми в своих избах, оказывалось, что в баню их водили в месяц раз, не давая мыла, хотя в отчётных ведомостях аккуратно каждую неделю показывалось: 3/7 сажени однополенных сухих дубовых дров, с распилкою на месте, по 30 рублей за одну сажень» и «по 10 золотников белого ядрового мыла для бани на каждого больного, а на 20 больных столько-то, ценою за один пуд столько-то». Суровцов ненавидел эти научно точные табели, удобнее всего скрывавшие плутни всякого рода: он без дальных околичностей прекратил департаментские порядки, находя, что заболевших баб и мужиков можно лечить, кормить и обмывать без всякого участия канцелярии. Вместо чиновника-смотрителя приставил к больнице вдову-попадью, довольно тупую, но добрейшую бабу, за которую очень просила его Надя и которая хотя и не умела писать бумаг за №, вычислять суточные пропорции и выводить средние цифры заболевших, выздоровевших и умерших по сословиям, званиям и вероисповеданиям, но зато и не умела хорошую говядину обращать в дурную и расходовать массы сургучу и бумаги, которых никогда не покупалось. Она просто-напросто стала кормить больных вкусной похлёбкой да кулешом и поить их чайком вприкуску, по распоряжению Суровцова, а сама невесть как была рада. что на старости лет жила при тепле и достатке. Больные скоро повеселели и поправились в новых порядках. Вместо солдат за ними ходили старушки-сиделки, бельё им меняли и чинили, лекарства подавали вовремя и без ругани, и сам юный доктор, немножко недовольный на то, что его больница перестала напоминать знакомые порядки столичных клиник, с удивлением заметил добрые плоды простоты и естественности.