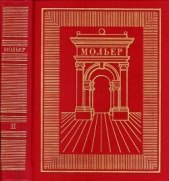Том 2 [Собрание сочинений в 3 томах]
![Том 2 [Собрание сочинений в 3 томах]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)
Том 2 [Собрание сочинений в 3 томах] читать книгу онлайн
Французский писатель Франсуа Мориак — одна из самых заметных фигур в литературе XX века. Лауреат Нобелевской премии, он создал свой особый, мориаковский, тип романа. Продолжая традицию, заложенную О. де Бальзаком, Э. Золя, Мориак исследует тончайшие нюансы человеческой психологии. В центре повествования большинства его произведений — отношения внутри семьи. Жизнь постоянно испытывает героев Мориака на прочность, и мало кто из них с честью выдерживает эти испытания.
Во второй том вошли романы «Тайна семьи Фронтенак», «Дорога в никуда» и «Фарисейка».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Несколько домиков, составлявших поселок Балюзак, показались нам погруженными в мертвый сон. Стояли они вразброд, так что улицы не получалось, не было также намека на площадь. Дом священника стоял поодаль, отделенный от церкви погостом. На другом конце поселка находилась новая школа, а против нее — кабачок, он же бакалейная лавка, кузница, а также аптека Вуайо, которая в тот день была заперта. Больше двух третей прихожан аббата Калю жили на своих фермах в нескольких километрах отсюда. По мере нашего приближения тревога Мишель заразила и меня. Мы стали как бы одним общим сердцем, одним дыханием. Я подвернул черные панталоны над своими траурными ботинками на пуговках.
Огород имел заброшенный вид. «Подожди, не стучи, дай я отдышусь», — сказала Мишель. Она не сделала того, что делают в подобных обстоятельствах теперешние девушки, — не попудрилась, не накрасила губ, у нее и сумочки-то с собой не было, только карман в нижней юбке. Я ударил молотком в дверь. Удар прозвучал гулко, словно в пустом склепе. Прошло полминуты, затем мы услышали скрип стула, шлепанье войлочных туфель. Нам открыл дверь призрак, и этим призраком был аббат Калю. После нашей встречи на Интендантском бульваре он исхудал еще сильнее.
— Ох, дорогие детки… Я собирался было вам написать… Хотел непременно прийти… да не решился из-за мадам Пиан, понимаете?
Он ввел нас в гостиную, открыл ставни. Нас сразу словно окутал ледяной покров. И когда аббат неуверенно осведомился, не боимся ли мы простудиться, я ответил, что мы действительно очень разгорячились и, если можно, лучше подняться на второй этаж. Аббат чуть нахмурился, извинился, что там у него беспорядок, и, еле заметно пожав плечами, сделал нам знак следовать за ним. Я чувствовал, что Мишель вся напряглась, ожидая внезапного и желанного появления: вот сейчас Жан свесится через перила. А может, он стоит за дверью, которую как раз в эту минуту открывает аббат Калю.
— Кровать не убрана, — извинился аббат. — Мария стареет, да и я нынче утром что-то занемог…
Что за мерзость запустения! На нечистых серых простынях валялись книги. Среди бумаг, разбросанных на камине, красовалась тарелка с остатками пищи. В камине, прямо на золе, стоял кофейник. Аббат Калю пододвинул нам два стула, а сам сел на постель.
— Мне очень хотелось бы вам сказать, что я разделяю ваше горе. Но сейчас я не в силах думать ни о ком и ни о чем. Я в плену у собственных бед. Может быть, вы знаете, где он? Ведь должны же ходить какие-то слухи… Мне лично ничего не известно, и боюсь, что мне так ничего и не будет известно, ибо кто-кто, а семья, вы сами понимаете, не сообщит мне о результатах поисков! Простите, что я так говорю… С тех пор, как это стряслось, я и десятком слов ни с кем не перемолвился… Здешние люди меня сторонятся или открыто над мной смеются…
— Что стряслось? — спросил я.
Но Мишель все уже поняла.
— Что с ним случилось? С ним ничего не случилось?
Аббат Калю прикрыл ладонью руку Мишель, судорожно вцепившуюся ему в запястье, и повторил, что ничего не может нам ответить, что именно ему никто ничего не сообщает и, конечно, не сообщит…» Только тут он заметил, что мы сидим с ошалелым видом.
— Да неужели вы не знаете, что он ушел? Значит, вам не говорили, что он ушел? Вот уже неделя, как ушел…
Мы с Мишель воскликнули одновременно:
— Ушел? Почему?
Аббат воздел вверх руки, потом бессильно уронил их на колени.
— Почему? Заскучал, разумеется… Да и какое ему здесь было житье со стариком священником… Но сам он никогда бы до этого не додумался, тут явно кто-то вмешался… Нет-нет, я не могу вам ничего сказать — вы еще дети. Ох, Мишель, Мишель, только вы одна могли бы… одна вы…
Впервые в жизни я видел, как плачет старый человек, священник. И плакал он не так, как плачут взрослые. Его голубые глаза, в которых стояли слезы, должно быть, были совсем такие, как шестьдесят лет назад, когда их утирала ему, мальчику, в минуты великих ребячьих горестей его мама. Да и губы он кривил совсем по-детски.
— А я-то думал, что сделал все, что мог… Я обязан был не отставать от вас, Мишель, добраться до вас, силой привезти вас сюда. Но, видно, у меня разума не хватило: затеял с вами какую-то дурацкую переписку! Конечно, вы не удержались от искушения и вложили в конверт, адресованный мне, письмо для Жана… Я обязан был это предвидеть. А знаете, дело обо мне передано в епархию. Ваша мачеха, милейшая дама, направила туда довольно-таки подробный навет. На мое счастье, кардинал Леко не так грозен, как может показаться на первый взгляд. Ясно, его высокопреосвященство поднял меня на смех! Обозвал меня «посланцем любви» и прочитал к случаю латинские стихи. Очевидно, заранее было решено обернуть дело в шутку, не придавать ему серьезного значения. Кардинал — человек жесткий, от его шуток страх берет, но у таких людей, как он, сердце обычно уживается с незаурядным умом. Я и сам понимаю, что он был со мной очень добр…
На мгновение аббат прикрыл лицо своими широкими ладонями. Мишель спросила, что ей теперь надо делать. Он отвел руки и посмотрел на Мишель, его мокрое от слез лицо осветилось улыбкой.
— О, для вас, Мишель, все это очень просто: коль скоро вы будете живы и он будет жив, ничего еще не потеряно… Вам, надеюсь, известно, что вы для него представляете? Отдаете ли вы себе отчет в глубине его чувств? А вот я, что я могу сделать? Нет, знаю, человеку всегда остается возможность страдать, страдать за других. Верю ли я в это? — спросил он сам себя вполголоса, словно забыв о нашем присутствии. — Да, верю. Слишком жестока доктрина, утверждающая, будто наши поступки ни к чему не ведут, будто все заслуги человека бесполезны и ему самому, и тем, кого он любит! В течение многих веков христиане верили, что бедный крест, на котором они были распяты справа или слева от Господа, помогает их собственному искуплению и искуплению любимых ими существ… А потом Кальвин лишил их этой надежды, но я-то, я еще не утратил ее… Нет, — повторил он, — не утратил.
Мы с Мишель переглянулись, мы решили, что он бредит, и испугались. Аббат вытащил из кармана большой носовой платок в лиловую клетку, вытер глаза и, сделав над собой усилие, заговорил твердым голосом.
— Ты, Луи, — обратился он ко мне, — ты можешь написать в Ла-Девиз: вполне естественно, что ты осведомляешься у графини о своем товарище. Конечно, ее ответ придется перетолковать на человеческий язык, потому что никто так не умеет лгать, как она… Может быть, он уже вернулся. Далеко они не уедут, — добавил он.
— Значит, он не один? — спросила Мишель.
Аббат пристально смотрел на огонь, куда подбросил еще одно полено. Я заметил, что путешествовать без денег нельзя и что Мирбелю домашние почти ничего никогда не посылали.
— Он все время на это жаловался. Помните, господин кюре?
Аббат Калю по-прежнему ворошил кочергой в камине и словно не расслышал моего вопроса. Мы поднялись и стояли перед ним, а он, видимо боясь новых вопросов, нетерпеливо ждал нашего ухода. Мишель сдалась первая. Она бросила прощальный взгляд на грязную, неприбранную комнату и начала медленно спускаться с лестницы, ведя ладонью по этим перилам, которых столько раз касалась рука Жана. От сырости обои отклеились, плиточный пол в прихожей был покрыт жидкой грязью.
— Если вы что узнаете, непременно напишите мне, — проговорил аббат. — И я тоже вам напишу…
— Я не спрашиваю у вас имя той особы, с которой Жан уехал, — неожиданно сказала Мишель. (Я потом узнал, что Сэнтис передал ей слухи, ходившие насчет Гортензии Вуайо и мальчишки-воспитанника аббата Калю.) — Впрочем, об этом не так уж трудно догадаться, — со смехом добавила она.
До сих пор я помню этот смех. Кюре распахнул входную дверь, и туман, пронизанный запахом дыма, вполз в прихожую. И тут аббат Калю заговорил очень быстро, не глядя на нас, не отпуская створки двери:
— Что вам из того? Вам это совершенно неважно, Мишель, ведь нет на свете другого человека, который значил бы в его глазах больше, чем вы. Вы были его отчаянием. Что вам из того, — повторил он, — что другая сумела воспользоваться этим просто потому, что была здесь, рядом… Сжальтесь надо мной, не расспрашивайте меня ни о чем… Впрочем, здесь вам любой об этом расскажет. Вам даже нет нужды никого спрашивать. Но не бедному старику священнику говорить с вами на такие темы: ведь вы еще дети. Все, что я могу позволить себе, Мишель, — сказать вам еще раз: если Жану суждено быть спасенным, то только через вас. Что бы ни случилось, не бросайте его. Он не предал вас по-настоящему… Да и меня тоже не предал. Я привязался к нему, как к сыну, посланному мне на старости лет; одно только — забыл спросить его согласия. Я сам присвоил себе родительские права, но на него-то они не накладывают никаких обязательств. Он оскорбил лишь одного Господа Бога, а я не сумел научить Жана любить Его, он так Его и не познал за все время, что прожил здесь со мной, и остался таким, как в первый день, помните, когда вы поспорили в саду!