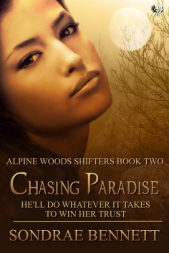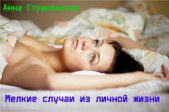Мой роман, или Разнообразие английской жизни

Мой роман, или Разнообразие английской жизни читать книгу онлайн
«– Чтобы вам не уклоняться от предмета, сказал мистер Гэзельден: – я только попрошу вас оглянуться назад и сказать мне по совести, видали ли вы когда-нибудь более странное зрелище.
Говоря таким образом, сквайр Гезельден всею тяжестью своего тела облокотился на левое плечо пастора Дэля и протянул свою трость параллельно его правому глазу, так что направлял его зрение именно к предмету, который он так невыгодно описал…»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Леонард имел при себе запасный ключ. Он отпер уличную дверь и без малейшего шума поднялся по скрипучей деревянной лестнице своей квартиры. Утренняя заря занималась. Леонард подошел к окну и открыл его. Зеленый вязь на соседнем дворе казался свежим и прекрасным, как будто он посажен был за множество миль от дымного Вавилона.
– Природа, природа! произнес Леопард:– я слышу твой голос: он успокоивает меня, он придал мне силу. Но борьба моя ужасна: с одной стороны грозит мне отчаяние в жизни, с другой является передо мной упование на жизнь.
Вот птичка порхнула из густоты дерева и опустилась на землю. Утренняя песенка её долетела до слуха Леонарда; она разбудила других птичек – воздух начал рассекаться крыльями пернатых; облака на востоке зарумянились.
Леонард вздохнул и отошел от окна. На столе, подле цветка, лежало письмо. Он не заметил его при входе в комнату. Письмо написано было рукою Гэлен. Леонард поднес его к окну и прочитал, при ярких лучах восходящего солнца:
«Неоцененный брат Леонард! найдет ли тебя это письмо в добром здоровье и не в такой печали, в какой мы расстались? Я пишу это, стоя на коленях: мне кажется, что я должна в одно и то же время писать и молиться. Ты можешь придти ко мне завтра вечером. Ради Бога, приходи, Леонард! Мы вместе погуляем в нашем маленьком садике. В нем есть беседка, закрытая со всех сторон жасминами и плющем. Из неё мы полюбуемся Лондоном. Я очень, очень часто смотрела отсюда на Лондон, стараясь отыскать крыши нашей бедной маленькой улицы и воображая, что вижу вяз против твоих окон.
«Мисс Старк очень добра ко мне; и мне кажется, что после свидания с тобой я непременно буду счастлива, – само собою разумется, в таком только случае, если ты сам счастлив.
«Остаюсь, до свидания, преданная сестра.
«Г элен.
«Плюшевый домик.
«P. S. Наш дом укажет тебе всякий. Он находится налево от вершины горы, пройдя немного по переулку, на одной стороне которого ты увидишь множество каштанов и лилий. Я буду ждать тебя у дверей.»
Лицо Леонарда просветлело: он снова казался теперь прежним Леонардом. Из глубины мрачного моря в душе его улыбнулось кроткое личико непорочного ребенка, и волны, как будто по волшебному мановению, прилегли, затихли.
Глава LVIII
– Кто такое этот мистер Борлей, и что он написал? спросил Леонард мистера Приккета, по возвращении в лавку.
Позвольте нам самим отвечать на этот вопрос, потому что мы знаем мистера Борлея более, чем мистер Приккет.
Джон Борлей был единственный сын бедного пастора в небольшом приходе близ Илинга, – пастора, который собирал крохи, сберегал их, отказывал себе во многом, с тои прекрасною целью, чтоб поместить своего сына в одно из лучших в северных провинциях Англии учебных заведений и оттуда в университет. В течение первого года университетской жизни, молодой Борлей обратил на себя внимание профессоров толстыми башмаками, грубым бельем и авторитетами, избранными им для тщательного изучения. При первом публичном испытании он отличился и пробудил в своих наставниках большие надежды. В начале второго года, порывы пылкой души его, обуздываемые до этого занятиями, вырвались наружу. Чтение не составляло для него дела большой трудности: он приготовлял свои лекции, как говорится, с уст профессора. Свободные от занятий часы он посвящал пиршествам, но, ни под каким видом, не сократовским. Он попал в шайку праздных гуляк и под руководством их наделал множество шалостей и был исключен.
Борлей возвратился домой самым жалким человеком. Впрочем, при всех своих шалостях, он имел доброе сердце. При удалении от соблазна и дурных примеров, его поведение, в течение целого года, было безукоризненно. Его допустили исправлять должность наставника в той самой школе, в которой сам он получил первоначальное образование. Школа эта находилась в большом городе. Джон Борлей сделался членом городского клуба, основанного купеческим сословием, и проводил в нем аккуратно три вечера в неделю. Ораторские способности его и многосторонния познания сами собою так быстро обнаружились, что он сделался душою клуба. Первоначально клуб этот состоял из трезвого, миролюбивого общества, в котором почтенные отцы семейств выкуривали трубку табаку, запивая ее рюмкой вина; но под управлением мистера Борлея он сделался притоном пирушек шумных, разгульных. Это недолго продолжалось. Однажды ночью на улице произошел страшный шум и беспорядок, и на другое утро молодого наставника уволили. К счастью для совести Джона Борлея, отец его скончался до этого происшествия: он умер в полной уверенности в исправлении своего детища. Во время исполнения учительской обязанности, мистер Борлей успел свести знакомство с редактором провинциальной газеты и доставлял ему весьма серьёзные статьи политического свойства: надобно заметить, что Борлей, подобно Парру и Порсону, был весьма замечательный политик. Редактор, в знак благодарности, снабдил его рекомендательными письмами к известнейшим в Лондоне журналистам, так что Джон, явившись в столицу, весьма скоро поступил в число сотрудников газеты, пользующейся хорошей репутацией. В университете он познакомился с Одлеем Эджертоном, так, слегка: этот джентльмен только что начал возвышаться в ту пору на парламентском поприще. Борлей имел одинаковый с ним взгляд на какой-то парламентский вопрос, при разрешении которого Одлей успел отличиться, и написал по этому предмету превосходную статью, – до такой степени превосходную, что Эджертон пожелал непременно узнать автора, – узнал, что это был Борлей, и в душе решился доставить ему выгодное место при первом вступлении в оффициальную должность. Но Борлей принадлежал к разряду тех, весьма немногих впрочем, людей, которые не слишком гонятся за получением выгодного места. Сотрудничество его по газете продолжалось весьма недолго, – во первых, потому, что на него ни под каким видом нельзя было надеяться в то время, когда требовалась величайшая аккуратность в доставке журнальных статей; во вторых, у Борлея был какой-то необыкновенно странный и в некоторой степени эксцентричный взгляд на предметы, который ни под каким видом не мог согласоваться с понятиями какой бы то ни было партии. Его статья, допущенная в журнал без строгого разбора, привела в ужас редакторов, подписчиков и читателей газеты. Статья эта по духу своему была диаметрально противоположна направлению журнала. После этого Джон Борлей заперся в своей квартире и начал писать книги. Он написал две-три книги, очень умные, это правда, но не совсем соответствующие народному вкусу – отвлеченные и чересчур ученые, наполненные идеями непонятными для большей части читателей, и прошпигованные греческими цитатами. Несмотря на то, издание этих книг доставило Борлею небольшую сумму денег, а в ученом мире – большую репутацию. Когда Одлей Эджертон сделался оффициальным человеком, он доставил Борлею, хотя и с большим трудом, место в Парламенте. Я говорю: с большим трудом, потому, что нужно было преодолеть множество предубеждений против этого пылкого, необузданного питомца муз. Он держался на новом своем месте около месяца, потом добровольно отказался от службы и скрылся на своем чердачке. С этого времени и до настоящей поры он жил Бог знает где и как. Литература, как всякому известно, есть в своем роде ремесло, а Джон Борлей с каждым днем становился более и более неепособным к какому нибудь занятию.
«Я не могу работать по заказу», говорил он. – Борлей писал тогда только, когда являлось к тому расположение, или когда в кармане его оставалась последняя пенни, или когда он находился в полицейском доме за долги – переселения, которые случались с ним круглым числом два раза в год. Литературные журналы и газеты охотно принимали все его статьи, но с условием, чтобы они не заключались его именем. Изменения в слоге его статей не требовалось, потому что он сам мог изменять его с легкостью, свойственной опытному писателю.
Одлей Эджертон продолжал оказывать ему свое покровительство, потому что, по служебным занятиям его, встречались вопросы, о которых никто не мог писать с такой силой, как Джон Борлей, – вопросы, имеющие тесную связь с политической метафизикой, как, например, изменение биллей и некоторые предметы из политической экономии. К тому же Одлей Эджертон был единственный человек, для которого Джон Борлей готов был служить во всякое время, оставлять свои пирушки и исполнять, как он выражался, заказную работу. Джон Борлей, надобно отдать ему справедливость, имел признательное сердце и, кроме того, очень хорошо понимал, что Эджертон старался действительно быть полезным для него. И в самом деле, при встрече с Леонардом на берегах Брента, он говорил истину, что ему сделано было предложение от Министерства отправиться на службу в Ямайку или в Индию. Но, вероятно, кроме одноглазого окуня, были еще и другие прелести, которые приковывали Борлея к окрестностям Лондона. При всех недостатках его характера, Джон Борлей был не без добрых качеств. Он был, в строгом смысле слова, враг самому себе; но едвали бы нашелся человек из целого мира, который бы решился назвать его своим врагом. Даже в тех случаях, когда ему приходилось делать строгий критический разбор какого нибудь нового произведения, он и тогда в сатире своей обнаруживал спокойное, веселое расположение духа, с которым смотрел на сочинение: в нем не было ни жолчи, ни зависти. Что касается до злословия, до оскорбления личности в литературных статьях, он мог бы послужить примером всем критикам. Из этого я должен исключить политику: когда дело касалось её, он являлся тут совершенно другим человеком – он приходил в исступление, защищая какой нибудь предмет, о котором спорили в Парламенте. В своих сделках с Эджертоном он поставил себе в непременную обязанность назначать цену за свои труды. Он потому назначал цену, что приготовление эджертоновских статей требовало предварительного чтения, собрания материалов и больших подробностей, чего, мимоходом сказать, Борлей не жаловал, и на этом основании считал себя вправе назначать цену немного более той, которую обыкновенно давали редакторы, в журналах которых помещались его статьи. В тех случаях, когда за долги его сажали в тюрьму, хотя он и знал, что одна строчка к Эджертону вывела бы его из неприятного положения, но из своенравия никогда не писал этой строчки. Освобождение из тюрьмы он основывал единственно на своем пере: он поспешно обмакивал его в чернила и, если можно так выразиться, выцарапывал себе свободу. Самый унизительный и, конечно, самый неисправимый из его пороков заключался в его излишней преданности к горячительным напиткам, и неизбежное следствие этой преданности – преданность к самому низкому обществу. Ослеплять своим юмором и причудливым красноречием грубые натуры, собиравшиеся вокруг него – это было для него такое торжество, такое возвышение в собственных своих глазах, которое искупало все жертвы, приносимые солидным достоинством. Ниже, ниже и ниже утопал Джон Борлей не только во мнении всех, кто знал его имя, но и в обыкновенном применении своих талантов. И, надобно заметить, все это делалось совершенно добровольно – по одной прихоти. Он готов был во всякое время написать за несколько пенсов статью для какого нибудь неизвестного журнала, тогда как за ту же статью мог бы получить несколько фунтов стерлингов от журналов, пользующихся известностью. Он любил писать национальные баллады и с особенным удовольствием останавливался на улицах, чтобы послушать, как нищий распевал его произведение. Однажды он действительно сделался поэтом, написав, в виде поэмы, объявление портного, и приходил от этого в восторг. Впрочем, восторг его недолго продолжался, потому что Джон Борель был питтист, как он сам выражался, а не торий. И еслиб вам случилось услышать, как он ораторствовал о Питте, вы, право, не знали бы, что подумать об этом великом сановнике. Джон Борлей трактовал о нем точь-в-точь, как немецкие компиляторы трактуют о Шекспире. Он приписывал ему такое множество странных качеств и достоинств, которые превращали великого практического человека в какую-то сивиллу. В своей поэме он представил Британию, которая явилась портному с выражением самой высокой похвалы за неподражаемое искусство, которое выказал он в украшении наружности её сынов, и, накинув на него мантию гигантских размеров, говорила, что он, и один только он, способен выкроить из неё и сшить мантии для замечательных людей Британии. В остальной части поэмы описывались бесполезные усилия портного в выкройке мантий, – как вдруг, в ту минуту, когда он начинал предаваться отчаянию, Британия снова явилась перед ним и на этот раз с утешением говорила ему, что он сделал все, что только мог сделать смертный, и что она хотела доказать жалким пигмеям, что никакое человеческое искусство не могло бы принаровить для размеров обыкновенных людей мантию Вильяма Питта. Sic itur ad astra. Британия взяла мацтию и удалилась в надзвездный мир. Эта аллегория привела портного в крайнее негодование, под влиянием которого перерезан был узел, соединявший портного с поэтом.