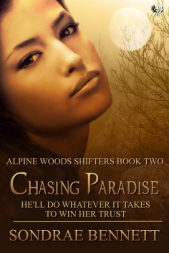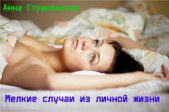Мой роман, или Разнообразие английской жизни

Мой роман, или Разнообразие английской жизни читать книгу онлайн
«– Чтобы вам не уклоняться от предмета, сказал мистер Гэзельден: – я только попрошу вас оглянуться назад и сказать мне по совести, видали ли вы когда-нибудь более странное зрелище.
Говоря таким образом, сквайр Гезельден всею тяжестью своего тела облокотился на левое плечо пастора Дэля и протянул свою трость параллельно его правому глазу, так что направлял его зрение именно к предмету, который он так невыгодно описал…»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Гм! Кто это такой? шепотом спросил он мистера Приккета.
– Молодой и весьма умный помощник мой.
Мистер Борлей осмотрел Леонарда с головы до ног.
– Мы встречались с вами прежде, сэр. Но теперь вы, кажется, как будто возвратились на Брент и ловите моего окуня.
– Очень может быть, отвечал Леонард:– только с той разницей, что леса моя натянута, но еще не оборвана, хотя окунь таскает ее в тростнике и прячется в тине.
Вместе с этим Леонард приподнял свою шляпу, слегка поклонился и ушел.
– Он очень умен, сказал мистер Борлей книгопродавцу:– он понимает аллегорию.
– Бедный юноша! явился в Лондон с намерением сделаться сочинителем; а вам известно, мистер Борлей, что значит сделаться сочинителем.
– Да, господин книгопродавец, известно! возразил Борлей, с видом полного сознания собственного своего достоинства. – Сочинитель есть существо среднее между людьми и богами, – существо, которое должно жить в великолепном дворце, питаться на счет публики ортоланами и пить токайское вино. Он должен нежиться на пуховых оттоманах и закрываться драгоценными тканями от житейских забот и треволнений, ничего не делать, как только сочинять книги на кедровых столах и удить окуня с кормы позлащенной галеры. Поверьте, что эта счастливая пора наступит, когда пройдут века и люди сбросят с себя варваризм. Между тем, сэр, приглашаю вас в мои палаты, где намерен угостить вас превосходным грогом, на сколько станет моих денег; а когда они выйдут все, надеюсь, что вы в свою очередь угостите меня.
– Нечего сказать, большой тут барыш, проворчал мистер Приккет в то время, как мистер Борлей, высоко вздернув нос, вышел из лавки.
В первое время своего пребывания в лавке, Леонард обыкновенно возвращался домой по самым многолюдным улицам: столкновение с народом ободряло его и в некоторой степени одушевляло. Но с того дня, когда обнаружилась история его происхождения, он направлял свой путь по тихим и, сравнительно, безлюдным переулкам.
Едва только вступил он в ту отдаленную часть города, где ваятели и монументщики выставляют на показ свои разнохарактерные работы, одинаково служащие украшением садов и могил, и когда, остановясь, он начал рассматривать колонну, на которой была поставлена урна, полу-прикрытая погребальным покровом, его слегка ударил кто-то по плечу. Леонард быстро обернулся и увидел перед собой мистера Борлея.
– Извините меня, сэр; но я сделал это потому, что вы понимаете, как удить окуней. А так как судьба пустила нас на одну и ту же дорогу, то мне бы очень хотелось познакомиться с вами покороче. Я слышал, вы имели намерение сделаться писателем. Рекомендуюсь вам, я сам писатель.
Леонард, сколько известно было ему, никогда еще до этой минуты не встречался с писателем. Печальная улыбка пробежала по его лицу в то время, как осматривал он рыболова.
Мистер Борлей одет был совершенно иначе в сравнении с тем разом, когда впервые встретился он с Леопардом на берегах Брента. В этой одежде, впрочем, он менее похож был на автора, чем на рыбака. На нем была новая белая шляпа, надетая на бок, новое пальто зеленого цвета, новые панталоны и новые сапоги. В руке держал он трость из китового уса с серебряным набалдашником. Ничто так не доказывало бродячей жизни этого человека и величайшей беспечности, как его наружность. При всем том, несмотря на его пошлый наряд, в нем самом не было ничего пошлого, но зато много эксцентричного, даже чего-то выходящего из пределов благопристойности. Его лицо казалось бледнее и одутловатее прежнего, кончик носа гораздо краснее; глаза его сверкали ярче, и на углах его насмешливых, сластолюбивых губ отражалось полное самодовольствие.
– Вы сами сочинитель, сэр? повторил Леонард. – Это прекрасно! Мне бы хотелось знать ваш отзыв об этом призвании. Вон, эта колонна поддерживает урну. Колонна высока, и урна сделана очень мило, но подле дороги они совсем не на месте: что вы укажите об этом?
– Конечно, самое лучшее место для неё на кладбище.
– Я тоже думаю…. Так вы сочинитель?
– Понимаю; я еще давича заметил, что вы большой охотник до аллегорий. Вы хотите сказать, что сочинитель гораздо выгоднее покажется на кладбище, в виде закрытой урны, при тусклом свете луны, чем в белой шляпе и с красным кончиком носа под яркой газовой лампой. В некотором отношении вы правы. Но, в свою очередь, позвольте и мне заметить, что самое выгодное освещение для сочинителя – когда он бывает на своем месте. Пойдемте со мной.
Леонард и Борлей были заинтересованы друг другом; несколько шагов они сделали молча.
– Возвратимся опять к урне, начал Борлеи: – я вижу, что вы мечтаете о славе и кладбище. Это в порядке вещей. И вы будете мечтать, пока не исчезнут перед вами обманчивые призраки. В настоящую минуту я занят своим существованием и от души смеюсь над славой. Слава сочинителей не стоит стакана холодного грогу! А если этот стакан будет заключать в себе горячий грог, да еще с сахаром, и если в кармане будет находиться шиллингов пять денег, в трате которых никому не следует давать отчета, – о, могут ли тогда сравняться с этим стаканом все памятники внутри Вестминстерского аббатства!
– Продолжайте, сэр; мне очень приятно слышать ваш разговор. Позвольте мне слушать и молчать.
И Леонард еще более надвинул шляпу на глаза; он, всей душой, унылой, ожидавшей отголоска в душе другого человека, – душой взволнованной, предался своему новому знакомцу.
Джон Борлей не заставлял упрашивать себя: он продолжал говорить. Опасен и обольстителен был его разговор. Он похож был на змею, растянутую по земле во всю длину и, при малейшем движении, показывающую блестящие, переливающиеся, великолепные оттенки своей кожи, – на змею, но без змеиного жала. Если Джон Борлей обольщал и искушал, то он сам не замечал того: он полз и красовался без всякого преступного умысла. Простосердечнее его не могло быть создания.
Надсмехаясь над славой, Борлей с восторженным красноречием распространялся о наслаждении, какое испытываете писатель, одаренный силою творчества.
– Какое мне дело до того, что скажут и будут думать люди о словах, которые из под пера моего выльются на бумагу! говорил Борлей. – Если в то время, когда вы сочиняете, ваши мысли будут заняты публикой, надгробными урнами и лавровыми венками, тогда вы не гений – вы неспособны даже быть писателем. Я пишу потому, что это доставляет мне беспредельное удовольствие, – потому, что в этом занятии отражается моя душа. Написав какую нибудь статью, я столько же забочусь о ней, сколько жаворонок заботится о действии, какое производит его песня на крестьянина: пробуждает ли она его к дневным занятиям, или нет – ему все равно. Поэт тоже, что жаворонок: в минуты песнопения он парит под облаками…. Не правда ли?
– Совершенная правда!
– Кто и что может лишить нас этого наслаждении? Неужели мы должны заботиться о том, купит ли наше произведение какой нибудь книгопродавец, или будет ли публика читать это произведение: пусть себе их спят у подножия лестницы гения – мы и без этого войдем на нее. Неужели вы думаете, что Бёрнс, заседая в питейной лавке, в кругу всякого сброда, пил, подобно своим собеседникам, обыкновенное, пиво и виски? Совсем нет! он пил нектар: он глотал свои мечты, мысли, напитанные чистейшей амврозией; он разделял всю радость, все веселье целого сонма олимпийских богов. Пиво или виски моментально превращаются в напиток Гебы. Я вижу, молодой человек, вы не знаете этой жизни; вы еще не успели вглядеться в нее. Пойдемте со мной. Подарите мне эту ночь. У меня есть деньги: я с такой щедростью намерен расточить их, как расточал Александр Великий, когда оставил на свою долю одну только надежду. Пойдем, пойдем!
– Но куда?
– В мои чертоги, где восседал до меня Эдмунд Кин, могущественный мимик. Я его наследник. Мы увидим там на самом деле, что такое эти сыны гения, на которых писатели ссылаются для того, чтоб украсить свою повесть, и которые были ни более, ни менее, как предметы сострадания. Мы увидим там холодных, серьёзных граждан, которые невольным образом заставят нас оплакивать Саваджа и Морланда, Порсона и Бёрнса!..