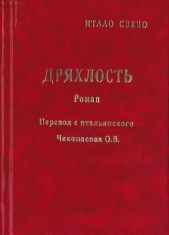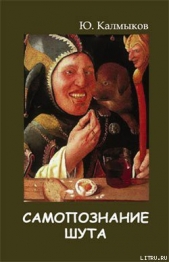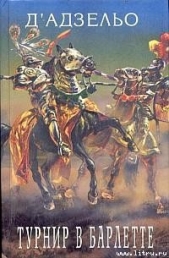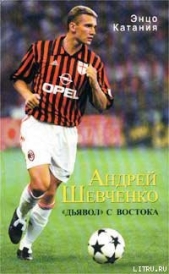Самопознание Дзено

Самопознание Дзено читать книгу онлайн
Один из восемнадцати детей коммерсанта Франческо Шмица, писатель принадлежал от рождения к миру австро-итальянской буржуазии Триеста, столь ярко изображенной в «Самопознании Дзено». Он воспринимался именно как мир, а не мирок; его горизонты казались чрезвычайно широкими благодаря широте торговых связей международного порта; в нем чтились традиции деловой предприимчивости, коммерческой добропорядочности, солидности… Это был тот самый мир, который Стефан Цвейг назвал в своих воспоминаниях «миром надежности», мир, где идеалом был «солидный — любимое слово тех времен — предприниматель с независимым капиталом», «ни разу не видевший своего имени на векселе или долговом обязательстве» и в гроссбухах своего банка всегда «ставивший его только в графе „приход"», что и составляло «гордость всей его жизни».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я не стал пересказывать Аугусте то, что сказала мне Ада. К чему было ее огорчать? Но ее слова, наверное, именно потому, что я никому их не передал, продолжали звучать у меня в ушах долгие годы. И вот сейчас они снова звучат в моей душе. Я до сих пор часто о них думаю. Я не могу сказать, что любил Гуидо, но ведь это только потому, что он был очень странным человеком. Однако держал я себя с ним по-братски и помогал ему как мог. Так что упреков Ады я все-таки не заслужил.
С ней мне больше ни разу не удалось остаться наедине. Она не испытывала потребности сказать мне что-либо еще, а я не осмелился ни на какое объяснение, может быть, потому, что не хотел растравлять ее рану.
На бирже все кончилось так, как я и ожидал, и отцу Гуидо, уже получившему первую нашу телеграмму, извещавшую его о потере всего состояния, было, конечно, приятно узнать, что оно наполовину цело. Дело моих рук, правда, оно не доставило мне того удовольствия, на которое я рассчитывал.
Ада до самого своего отъезда в Буэнос-Айрес, куда она ехала вместе с детьми, держалась со мной очень дружески. Ей нравилось бывать в нашем с Аугустой обществе. И иногда я даже думал, что те ее слова породил взрыв отчаяния, доведший ее буквально до безумия, а сейчас она о них даже не помнит. Но однажды, когда у нас зашла речь о Гуидо, она в двух словах повторила все то, что сказала мне в тот день:
— Бедный, его никто не любил.
Перед тем как взойти на палубу, Ада, держа на руках слегка занемогшего ребенка, поцеловала меня. Потом, выбрав момент, когда около нас никого не было, сказала:
— Прощай, Дзено, прощай, брат. Я всегда буду помнить, что недостаточно его любила. И ты должен это знать. Я охотно покидаю свою страну. Мне кажется, что я убегаю от угрызений совести.
Я упрекнул ее за то, что она так отчаивается. Я сказал, что она была прекрасной женой, я могу это подтвердить. Не знаю, удалось ли мне ее убедить. Она ничего мне больше не сказала, так как ей помешали слезы. Потом, много позже я понял, что этими словами она, уже прощаясь, хотела возобновить свои упреки. Но я-то знаю, что она была ко мне несправедлива. Я уверен, что могу не упрекать себя за то, что плохо относился к Гуидо.
День был туманный и пасмурный. Казалось, все небо заволокла одна огромная, хотя и ничем не угрожавшая туча. Из порта пытался выйти на веслах большой баркас, паруса которого безжизненно обвисли на мачтах. Гребцов было всего двое, и частыми гребками они едва приводили в движение тяжелую лодку. Может, в открытом море им еще и удастся поймать подходящий ветер.
Ада с верхней палубы корабля махала нам платком. Потом повернулась к нам спиной. Она, конечно, глядела в сторону Сант-Анны, туда, где покоился Гуидо. Ее элегантная фигурка делалась все стройнее по мере того, как она от нас удалялась. Слезы застлали мне глаза. Вот она и уехала, и теперь уже никогда не смогу я доказать ей свою невиновность.
VIII. ПСИХОАНАЛИЗ
3 мая 1915 г.
С психоанализом покончено. Целых полгода я усердно им лечился, а чувствую себя хуже, чем раньше. Доктору я еще не отказал, но мое решение бесповоротно. Вчера я послал ему сказать, что я занят; пускай подождет несколько дней. Если б я был вполне уверен, что не поддамся раздражению и просто над ним посмеюсь, я бы, пожалуй, заставил себя к нему пойти. Но боюсь, что мне захочется его прибить.
В нашем городе, с тех пор как разразилась война, стало еще тоскливее, чем прежде, и вот, чтобы занять себя чем-то вместо психоанализа, я вновь сажусь за дорогие мне страницы. Уже год, как я не написал в своей тетради ни строчки, послушный в этом, как и во всем остальном, указаниям врача, который требовал, чтобы в период лечения я сосредоточивался на своих воспоминаниях только в его присутствии, потому что сосредоточение без его контроля только укрепит те тормоза, которые мешают мне быть непосредственным и чистосердечным. Но последнее время я чувствую себя больным и расстроенным еще более, чем обычно, и мне кажется, что если я снова начну писать, это поможет мне излечиться от болезни, возникшей в результате лечения. Во всяком случае, я уверен, что это верный способ вернуть значительность прошлому, которое уже не причиняет страданий, и заставить течь быстрее мрачное настоящее.
Я с таким доверием относился к доктору, что, когда он объявил о моем выздоровлении, я безоговорочно поверил ему, а не боли, которая продолжала терзать меня по-прежнему. Я говорил ей: «Нет, нет, это не ты!» Но теперь сомневаться не приходится: это она! Кости ног у меня превратились в вибрирующие зубья, которые раздирают мне плоть и мускулы.
Но как раз это не так уж и важно, и не из-за этого я бросаю лечение. Если бы часы, которые я проводил, сосредоточившись, в обществе доктора, по-прежнему приносили мне интересные открытия и ощущения, я бы от них не отказался, а если бы и отказался, то не раньше, чем кончится война, которая лишает меня возможности заниматься чем-либо другим. Но сейчас, когда я уже знаю все, а именно, что речь идет всего лишь об иллюзии, дурацком трюке, способном взволновать разве что какую-нибудь истеричную старушку, — как могу я выносить общество этого смешного господина, с этим его взглядом, претендующим на проницательность, с этой его самонадеянностью, позволяющей ему группировать все на свете явления вокруг своей великой теории! Я употреблю все свое свободное время на то, чтобы писать. Я опишу всю историю своего лечения, ничего не опуская, — откровенничанью моему с доктором пришел конец, и теперь я могу свободно вздохнуть. Никто больше не требует от меня никаких усилий. Я не должен ни заставлять себя верить, ни притворяться, что верю. Именно для того, чтобы скрыть от доктора свои истинные мысли, я считал необходимым относиться к нему с самой рабской почтительностью, а он пользовался этим и, что ни день, преподносил мне одну небылицу за другой. Лечение мое должно было вот-вот закончиться, потому что наконец-то выяснилось, чем я болен. Это была та самая болезнь, которую покойник Софокл некогда обнаружил у бедного Эдипа: я любил свою мать и хотел убить своего отца.
И я не только не рассердился — я слушал его как зачарованный. Должно быть, она была незаурядна, эта болезнь, до которой наши предки додумались еще в эпоху античных мифов! И я не сержусь даже и сейчас, когда пишу эти строки. Я просто смеюсь от всей души. Лучшим доказательством того, что я не был болен этой болезнью, является тот факт, что я не излечился. Это доказательство должно убедить и доктора. И пусть он будет спокоен: его слова не смогли испортить мне воспоминаний юности. Я закрываю глаза, и сразу же передо мной предстает моя детская наивная и чистая любовь к матери, уважение и глубокая привязанность, которые я испытывал к отцу.
Доктор слишком доверяет моим пресловутым признаниям, которые он не захотел мне вернуть для пересмотра. Бог мой! Он не знает ничего, кроме медицины, а потому и представить себе не может, что значит для нас, говорящих и пишущих только на диалекте, писать по-итальянски. Мы лжем каждым нашим тосканским словом! Если бы он знал, что мы всегда предпочитаем говорить то, для чего у нас уже заготовлены фразы, и избегаем всего, что вынуждает нас обратиться к словарю! Именно но этому принципу мы и выбираем из нашей жизни достойные внимания эпизоды. Наша жизнь, вне всякого сомнения, выглядела бы совсем иначе, если бы мы рассказали ее на диалекте!
Доктор признался мне, что за всю свою долгую практику он не наблюдал волнения более сильного, чем мое волнение в тот момент, когда я натолкнулся на образы, которые он — так он, во всяком случае, считал — сумел вызвать из моего прошлого. Именно поэтому он так быстро провозгласил меня выздоровевшим.
И я не симулировал это волнение! Это было одно из самых глубоких волнений, которые я когда-либо испытывал. Оно истекало потом, пока я конструировал эти образы, и слезами, когда они наконец передо мной предстали. Я уже давно благоговейно лелеял эту надежду — надежду вновь пережить один день из той поры, когда я был еще невинен и наивен. Эта надежда меня поддерживала и воодушевляла в течение многих месяцев. Ведь это было то же самое, как если бы одной только силой воспоминаний суметь получить в разгар зимы живые майские розы! Доктор уверял, что воспоминание будет яркое и полное, — оно как бы добавит к моей жизни еще лишний день. Розы сохранят все свое благоухание, но шипы они сохранят тоже.