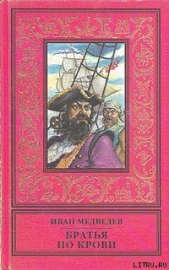Жермини Ласерте. Братья Земганно. Актриса Фостен

Жермини Ласерте. Братья Земганно. Актриса Фостен читать книгу онлайн
В истории французского реалистического романа второй половины XIX века братья Гонкуры стоят в одном ряду с такими прославленными писателями, как Флобер, Золя, Доде, Мопассан, хотя их литературный масштаб относительно скромнее. Лучшие их произведения сохраняют силу непосредственного художественного воздействия на читателя и по сей день. Роман «Жермини Ласерте», принесший его авторам славу, романы «Братья Земганно», «Актриса Фостен», написанные старшим братом — Эдмоном после смерти младшего — Жюля, покоряют и ныне правдивыми картинами, своей, по выражению самих Гонкуров, «поэзией реальности, тончайшей нюансировкой в описании человеческих переживаний».
Вступительная статья — В.Шор.
Примечания — Н.Рыков.
Перевод с французского — Э.Линецкая, Е.Гунст, Д.Лившиц.
Иллюстрации — Георгий, Александр и Валерий (Г.А.В.) Траугот.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Интересная история, но раз уж речь зашла о еде, позвольте и мне рассказать нечто в этом роде — о неземном питании графа де Марцелла. Сей знатный католик причащался в своем замке только такими облатками, на которых был вытиснен его герб. И вот однажды викарий с ужасом замечает, что запас облаток с гербами иссяк. Однако он решается поднести к устам благочестивого аристократа обыкновенную, плебейскую облатку и говорит ему извиняющимся тоном: «Чем бог послал, господин граф!»
Философ между тем продолжал расточать перед Фостен свое искусное красноречие, нашептывая ей разные изощренные комплименты, а та, в пылу кокетства, не только допускала его ухаживанье, но почти поощряла его. Воодушевленный успехом, он решил упрочить победу, применив по отношению к актрисе один трюк из своего репертуара, изобретенный им для покорения и порабощения женских сердец, — трюк весьма остроумный, но употреблявшийся им слишком широко и без достаточно глубокого проникновения в существо очередной особы женского пола, с которой он имел дело.
С минуту он многозначительно смотрел на свою соседку, потом сказал:
— На вашей красоте лежит ярко выраженная печать интеллекта… Да, да, я отличный судья в такого рода вещах… печать литературного дарования… Талант актрисы? Да, конечно, но о нем мы сейчас говорить не будем. У вас есть, правда еще в зачаточном состоянии, и другой талант… Вам надо писать о том, что вы видите вокруг себя… попытайтесь… я буду вашим советчиком… вашим гидом. Если бы вы знали, какие прелестные вещицы создают, благодаря моему дружескому руководству, некоторые светские дамы.
Фостен улыбнулась. К несчастью, ей был известен этот трюк, — с ней поделилась своим секретом одна молодая женщина, которой философ менее двух недель назад предложил себя в качестве советчика по литературным делам, — и теперь актриса была страшно обижена тем, что к ней отнеслись как к первой встречной простушке, как к какой-нибудь светской дурочке.
— Очень вам признательна, милостивый государь… Но неужели вы до сих пор не взяли патент на свое изобретение? Ведь это просто гениальный способ покорения женщин… обещать юным мещаночкам — и при том сейчас же, немедленно — перо госпожи Жорж Санд… Они, должно быть, моментально бросают свой домашний очаг, мужа, детей? А сколько дам в вашем классе?
И довольно долго, не давая философу ни минуты передышки, Фостен безжалостно терзала его своей злой, почти свирепой иронией.
Правый сосед Фостен мужественно перенес потерю расположения хозяйки дома. Он много ел, еще больше пил и, по-видимому, находился в состоянии приятного опьянения: подбородок его уткнулся в жилет, прядь развившихся волос упала на лоб, белая рука то и дело поглаживала черную бородку, а губы еле слышно напевали какую-то канцонетту его родной провинции.
Выбрав подходящий момент, он, раскачиваясь, наклонился к Фостен и проговорил:
— Сударыня, в начале ужина вы сказали мне, что с удовольствием послушали бы, как я говорю, как читаю… между прочим, у меня есть отец. Он кассир, и сейчас он как раз находится в весьма, весьма затруднительном положении… Так вот, не хотите ли вы доставлять себе это удовольствие ежедневно, по нескольку часов… за пятьсот франков в месяц?
— Мы поговорим о вашем предложении как-нибудь в другой раз, милостивый государь.
И молодой человек, как ни в чем не бывало, снова принялся гладить свою бородку и напевать канцонетту.
А Фостен начала обеими руками обмахивать себе грудь кружевом корсажа. Откинувшись назад, она прислонилась к спинке стула, и на лице ее появилось выражение почти забавной растерянности — растерянности, смешанной с презрением, с отвращением, почти с ненавистью, относившейся к разглагольствованиям обоих ее соседей и к ним самим. Взгляд ее, переходя от лица к лицу, обежал весь стол с какой-то наивной мольбой. «Неужели никто не сжалится и не избавит меня от этих несносных людей?» — казалось, говорил он. Потом она вдруг застыла, совершенно не шевелясь, и только ее отполированные ногти блуждали по белоснежной шее, а нервные подергивания всего тела невольно выдавали ее раздражение и скуку.
Пришел конец остроумным шуткам, словесным поединкам, шалостям мысли; голоса понизились, общий разговор постепенно замер, уступив место приватным беседам, и теперь каждый из собеседников, возвратясь к своим занятиям, к своим работам, к своим намерениям, щедро угощал ими свой уголок стола с той очаровательной откровенностью легкого и изящного опьянения, какая бывает у людей высокого ума после ужина, спрыснутого хорошим вином.
— Следовало бы познакомить каждого с чудесными свойствами материи, доведенной до summum [145]ее утилизации, — говорил один из гостей, нагнувшись к соседу и вертя в пальцах пробку от графина.
— Да, прославление материи — вот та прекрасная тема, которой вам бы следовало посвятить книгу.
— Я бы и сам очень этого желал, но не могу… не владею даром письменного словосочетания… В разговоре мне иногда удается дать представление об этом, но на следующий день, когда я остываю и беру в руки перо, получается совсем не то.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
— Французский язык, — говорил некий иностранный, писатель, великан с кротким лицом, [146]— французский язык производит на меня впечатление инструмента, изобретатели которого простодушно стремились к ясности, к логике, к грубой приблизительности определения. А сейчас этот инструмент оказался в руках людей самых нервных, с наиболее повышенной чувствительностью, людей, которые стремятся передать ощущения самые неуловимые и менее, чем кто бы то ни было, способны удовлетвориться этой грубой приблизительностью своих жизнерадостных предшественников.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
— Кровь теперь стала редкостью, ее нигде не найти, — говорил физиолог, человек с прекрасным задумчивым лицом, похожий на какого-то бесплотного духа. — Теперь совсем перестали пускать кровь. В мое время в больницах стояли целые ушаты крови. Недавно мне понадобилась кровь для моей лекции, и я нигде не мог ее достать. Если бы не тот старый доктор — вы знаете его, он всегда бывает на моих занятиях, — я так и не получил бы ее. О, это старый ученик Бруссе, он продолжает его традицию и то и дело вскрывает себе вену. Как-то раз он сказал мне: «Я пускаю себе кровь каждый день и поливаю ею цветы…» Это нечто положительное, определенное: таким способом либо излечиваешь людей, либо убиваешь… но все меняется каждые двадцать лет.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Какой-то журналист, похожий на персонаж картин Иорданса [147], с грубым, покрытым бородавками лицом и резким, отрывистым эльзасским акцентом, говорил:
— Варфоломеевская ночь [148]убила Францию. Если бы Франция стала протестантской, она бы навсегда сделалась величайшей нацией Европы… Видите ли, в протестантских странах существует постепенный переход от философии высших классов к свободомыслию классов низших. Во Франции же между скептицизмом верхов и идолопоклонством низов лежит пропасть, пустота… И скоро вы увидите, к чему она приведет, эта пустота!
. . . . . . . . . . . . . . . . .
— Египет, Египет! — повторял на ухо своему соседу некий художник кисти и слова [149], на время забыв об ужине. — Египет! Меня преследует мысль написать несколько страниц об этой стране… Торфянистая почва, земля словно каучук, шагов не слышно… Вам знаком лишь светлый, прозрачный Восток… А там, куда ни кинешь взгляд, едва заметная дымка испарений, и дымка эта делается тем гуще, чем она отдаленней… и в этом сером тумане — черные или синие фигуры… редко-редко встретишь красное пятно… Ах, как красив при этом освещении синий тон одежды… Я так и вижу этих людей с пятнами света на лбу и ключицах.