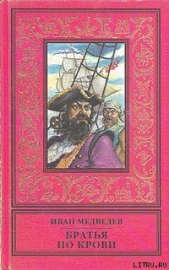Жермини Ласерте. Братья Земганно. Актриса Фостен

Жермини Ласерте. Братья Земганно. Актриса Фостен читать книгу онлайн
В истории французского реалистического романа второй половины XIX века братья Гонкуры стоят в одном ряду с такими прославленными писателями, как Флобер, Золя, Доде, Мопассан, хотя их литературный масштаб относительно скромнее. Лучшие их произведения сохраняют силу непосредственного художественного воздействия на читателя и по сей день. Роман «Жермини Ласерте», принесший его авторам славу, романы «Братья Земганно», «Актриса Фостен», написанные старшим братом — Эдмоном после смерти младшего — Жюля, покоряют и ныне правдивыми картинами, своей, по выражению самих Гонкуров, «поэзией реальности, тончайшей нюансировкой в описании человеческих переживаний».
Вступительная статья — В.Шор.
Примечания — Н.Рыков.
Перевод с французского — Э.Линецкая, Е.Гунст, Д.Лившиц.
Иллюстрации — Георгий, Александр и Валерий (Г.А.В.) Траугот.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
После бесконечных вызовов, опираясь на руку Генего и стиснув ее до боли, Фостен добралась до своей уборной и упала в кресло, где обычно гримировалась, вытянув онемевшие ноги, в состоянии, близком к каталепсии. Не в силах произнести ни слова, она отвечала на испуганные расспросы старухи служанки, которая уже намеревалась бежать за театральным врачом, лишь отрицательными движениями головы и прикасаясь рукой то к губам, то к шее, — жест, означавший, что голосовые связки у нее страшно напряжены и она не может говорить.
В таком состоянии она пробыла около трех четвертей часа, после чего, испустив глубокий вздох, давший, казалось, разрядку и отдых всему ее существу, она смогла наконец выговорить несколько слов.
Тогда она перешла в маленькую, битком набитую гостиную при уборной, откуда через открытую дверь виднелся в коридоре длинный ряд людей, словно у порога ризницы после какой-нибудь пышной свадьбы. И тотчас же, сметая мужчин на своем пути, лавина обезумевших женщин, охваченных тем нервным возбуждением, в какое всех и вся приводят театральные битвы, ринулась в объятия Фостен. Разразилась целая буря восторга. Конца не было ласкам, поцелуям, и вскоре уже все, и мужчины и женщины, обнимали Федру, не успевшую еще как следует стереть румяна. Ее тело — тело худенького серафима, закутанное в широкий, наспех наброшенный темный халатик, переходило из объятий в объятия и, отклоняясь то вправо, то влево, казалось бескостным, напоминая мягкий лоскут, который волнообразно колеблется, подгоняемый ветром… А на лице у актрисы читалось счастье, смешанное с недоумением, и она без конца повторяла растроганным и бессмысленным тоном: «Ах, дети мои! Ах, дети мои!»
Понемногу толпа «поздравителей» растаяла, и в уборной остались только лица, приглашенные актрисой к ужину.
Фостен ощущала потребность пройтись, «подышать улицей», как она выражалась. И они отправились пешком, всей компанией перешли улицу Сент-Оноре, расталкивая небольшие группы, еще стоявшие у дверей запиравшихся кафе и беседовавшие о вечернем спектакле. То тут, то там слышалось: «Смотрите — Фостен?!» И веселый батальон шел дальше в ночь, с шумным и жизнерадостным гомоном людей, решивших пировать до утра, причем самые молодые перебрасывались шутками с кучерами проезжавших мимо фиакров и продолжали что-то кричать им вслед до тех пор, пока экипажи не сворачивали на другую улицу.
XVII
Гости Фостен собрались в большой гостиной особняка на улице Годо-де-Моруа и ждали актрису, которая ушла к себе, чтобы переменить туалет.
Общество было разнообразное и смешанное — обычное общество таких вот ужинов после больших премьер, где сидят бок о бок литераторы, художники, ученые, политические деятели, генералы, медики, знаменитости всех жанров, а между ними, как это бывает всегда, неизвестно как и по чьему приглашению затесавшиеся никому не известные безымянные люди, носящие бороду или булавку в галстуке, в шароварах «по-казацки» или с иностранными орденами в петлице, люди, возбуждающие всеобщее любопытство и заставляющие гостей на всех концах стола всю ночь тщетно спрашивать на ухо друг у друга, кто же все-таки они такие, эти господа. Отдельные группы беседовали на разные расплывчатые темы, без воодушевления, с длинными паузами; некоторые уединялись по углам, скучая, без конца рассматривая безделушки. И, развалясь в низеньком кресле, при свете лампы, стоявшей сзади, какой-то reporter [141]карандашом писал на листочках папиросной бумаги отчет о нынешнем вечере.
Фостен появилась в вечернем туалете. На ней было атласное кремовое платье-пеньюар с отделанными старинным аржантанским кружевом бархатными манжетами и отворотами того же тона, на которых цветным жемчугом были вышиты туберозы. В волосах вилась ветка с зелеными листьями какого-то металлического оттенка — оттенка крыльев шпанской мухи. В этом платье светлого, но теплого колорита, среди блеска и роскоши причудливых цветов, сделанных из драгоценных камней, грудь женщины, едва открытая четырехугольным вырезом корсажа, казалась белоснежной лилией, расцветшей где-то в тени подвала, а изменчивые, зеленые, электрические отблески, которые при каждом движении головы отбрасывали листья, вплетенные в ее прическу, придавали ее лицу своеобразную фантастическую прелесть, сообщая утомленному, но сияющему взгляду выражение демоническое и вместе с тем ангельское.
Трепет какого-то влюбленного восторга пробежал по всей гостиной, и Фостен, еще не остывшая от возбуждения игры, остановилась посреди тотчас же образовавшегося вокруг нее кружка. Продолжая яростно подталкивать ножкой свой шлейф, она начала с необыкновенной горячностью рассказывать о всех происшествиях вечера, об эффекте, который у нее пропал из-за слишком рано поданной реплики, о несообразительности главаря клакеров, о шикателях из Одеона, которые последовали за ней и во Французскую Комедию, — и, перечисляя все эти обиды, ее охрипший голос вновь обрел прежнюю выразительность, резкость, звучность. Но вот метрдотель возвестил, что «кушать подано», и она вдруг взяла под руку никому не известного молодого человека, к чьим словам уже несколько минут прислушивалась с каким-то необъяснимым вниманием. Открыв шествие, она обернулась и сказала:
— Господа, у меня — без церемоний. Каждый садится, где хочет… где может.
И Фостен заняла место посреди стола, сестра ее села напротив.
Сперва в столовой наступила тишина, та сосредоточенная тишина, какая обычно возникает за ужином, среди проголодавшихся гостей, собравшихся вокруг стола, где пахнет раками и трюфелями, — вокруг стола, застланного камчатной скатертью, уставленного массивным серебром, граненым хрусталем, корзинами тропических цветов и залитого на старинный лад белым светом свечей в канделябрах и в высокой люстре с переливающимися подвесками; эти свечи бросают мягкий отблеск на плафон и на светлую обивку стен, где, словно в предутреннем тумане, сияют розовой наготою богини Олимпа.
За молчанием последовал неясный гул, первые, еще невнятные фразы, пробивающиеся сквозь полные рты, и, наконец, весь этот шум покрыли слова:
— Ужин при свечах, браво!.. Если бы женщины знали, как красива при свечах их кожа, на другой же день ни в одной парижской столовой не осталось бы ни единого газового рожка, ни одной лампы.
А Фостен говорила молодому человеку, которого посадила рядом с собой справа:
— Ах, сударь, как красиво вибрирует ваш голос! Нет, вы не имеете понятия, какую власть имеют надо мной голоса… право же, они проникают гораздо глубже уха… Говорите же, говорите, я хочу вас слушать… Да, у вас есть в голосе что-то от Делоне [142], но ваш, пожалуй, действует еще сильнее… Ах, в иные дни… да, я уверена, что в иные дни вы могли бы заставить меня плакать!
И, слушая его, актриса наклонялась к нему совсем близко, как наклоняются к музыкальному инструменту, который волнует душу.
— Чудесно, ну просто чудесно, — повторяла Фостен с восторженной улыбкой, склонив голову набок и словно приглядываясь к тому, как слова вылетают из его губ. — Нет, право же, сударь, вы должны приходить каждый день и проводить со мной несколько часов… Слушать, как вы говорите… как вы читаете… было бы для меня истинным праздником. В вашем голосе есть такие нотки… как странно!.. нотки, в которых чувствуется разом и рыдание и смех… Да, услышать от вас объяснение в любви было бы, должно быть, очень опасно.
И она кокетливо рассмеялась.
Потом, оборвав смех, обратилась к гостям:
— Господа, рекомендую вам эту рыбу. Это волжская стерлядь… Подарок одного из моих тамошних друзей. Она была заморожена эфиром, — да, да, эфиром… Говорят, что, когда ее усыпляют таким образом, она не совсем умирает и ее можно переправлять почти свежей на другой конец света.
Сказав это, Фостен снова повернулась к своему соседу, и в ее позе, в изгибах ее обращенного к нему тела чувствовалась та нежность, та влюбленность, какую вы часто можете заметить во время обеда или ужина, наблюдая за женщиной, когда она сидит рядом с нравящимся ей мужчиной. В этом теле одна сторона — сторона, обращенная к безразличному соседу, — кажется угрюмой, пассивной и как бы одеревеневшей, тогда как другая сторона трепещет, полна грации, соблазна, и мышцы беспрестанно играют, распространяя на расстоянии любовные флюиды. Забавное зрелище! Женщина, так сказать, одушевлена только с этой стороны: трепещет лишь то ее плечо, которое прикасается к этому соседу, волнуется лишь та грудь, на которую падает его взгляд, змеино изгибается лишь то бедро, лишь та нога, которые испытывают электрические разряды, исходящие от приятного ей мужчины.