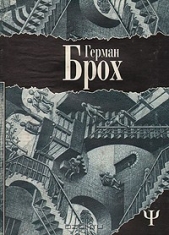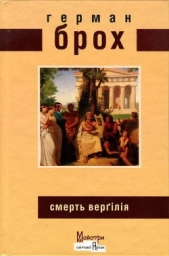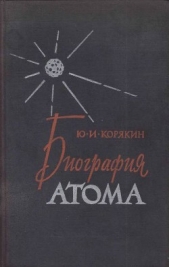Избранное (Невиновные. Смерть Вергилия)
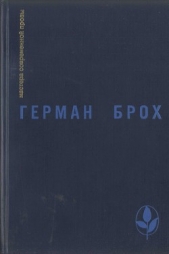
Избранное (Невиновные. Смерть Вергилия) читать книгу онлайн
Г. Брох — выдающийся австрийский прозаик XX века, замечательный художник, мастер слова. В настоящий том входят самый значительный, программный роман писателя «Смерть Вергилия» и роман в новеллах «Невиновные», направленный против тупого тевтонства и нацизма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Сжечь «Энеиду»!
Неужели в его устах сложились слова? Он так и не понял этого, не понял и все же не удивился, когда прилетел отклик, почти ответ:
— Ты звал?! — звук нежно-знакомый, почти родной, из Ниоткуда, то ли непостижимо близкий, то ли непостижимо далекий. Звук парил в неразличимом, хотя и не в бесконечном, хотя и не в желанном пространстве целокупности голосов, на мгновение ему даже почудилась Плотия, почудился ее парящий звучный голос, будто он мог ждать ее, даже должен был ждать в этой вновь умиротворенной, вновь оттаявшей, вновь слившейся воедино ночи, впрочем, с тем лишь, чтобы с еще большей очевидностью в следующее же мгновение понять, что это был голос мальчика, и эта без удивления встреченная самоочевидность, с какой он принял его возвращенье, ровным течением понесла его прочь меж земных берегов, прямо-таки беззаботно, без заботы о радости или разочаровании понесла она его средь земного, столь невесомого, что он был весьма озабочен, как бы взглядом или поворотом головы не прервать это течение; он лежал с закрытыми глазами и не шевелился. И он не знал также, как долго это длилось. Но потом в устах его будто снова сложились слова и будто он произнес:
— Зачем ты вернулся? Я не хочу больше тебя слышать.
И опять он не знал, сказал ли он это вслух, и не знал также, вправду ли мальчик находился в комнате, надо ли ждать ответа, нет ли; это было парящее ожидание, словно бы где-то настраивали лиру перед началом песни, и опять прозвучало совсем близко, как он и ожидал, и все же совсем далеко, будто прилетело с моря, истаивая в лунном сиянье и слегка поблескивая:
— Не прогоняй меня.
— Но ты стоишь у меня на пути, — отвечал он, — я хочу слышать другой голос, ты всего лишь призрачный голос, я должен отыскать другой.
— Я был твоим путем, я есмь твой путь, — раздалось в ответ, — я — созвучье, сопутствующее тебе, изначально и превыше всякой смерти, вовеки. — То было как искушение, было исполнено сладкого соблазна, исполнено простоты и грезы, зов из грезы, дабы он еще раз обернулся назад, эхо из страны детства. И тихий, близко-далекий и родной, отрешающий страданий мальчишеский голос продолжал — Вечен отзвук твоей поэмы.
Тогда он сказал:
— Нет, я не хочу больше слышать отзвук своего голоса; я жду голос, что вне моего.
— Тебе не заглушить уже созвучье сердец, их отзвук с тобой, неотступно, как твоя тень.
То было искушение, и ему было повеленье отринуть его:
— Я не хочу более быть собою; я хочу исчезнуть в глубочайших глубинах моего сердца, где нет тени, в глубочайшем его одиночестве, и стих мой уйдет туда прежде меня.
Ответа не было, будто сном пахнуло из невидимого, долгое как сон, мимолетное как сон дуновенье, и наконец он услышал:
— Надежде нужно, чтоб с нею рядом была надежда-спутница, и даже одиночество твоего сердца некогда было надеждою твоего начала.
— Возможно, — согласился он, — но ведь это надежда услышать голос, который будет мне поддержкою в одиночестве моего умиранья; без этого голоса я беспомощен и безутешен.
И снова после зыбко-долгой паузы пришел ответ:
— Ты никогда уже не сможешь быть одинок, никогда, ибо то, что звучало в тебе, больше, чем ты сам, больше, чем твое одиночество, и ты уже не властен заставить их умолкнуть; о Вергилий, в напеве твоего одиночества все голоса, все миры, они с тобой и отзвук их тоже, и навсегда разорвано ими твое одиночество, навсегда сплетено со всем грядущим, ибо твой голос, Вергилий, изначально был гласом бога.
Ах, именно так грезилось когда-то, в том Некогда, где нет прошлого, то был возврат к предвечному обетованию, которое он когда-то взлелеял в самом себе, и теперь оно как бы исполнилось, от решающее страданий и окрыляющее надеждой в своей самоочевидности, и все же — обманчивая надежда, безрассудная надежда отрока, ребенка, растворяющаяся в самообмане. И он вдруг спросил:
— Кто ты? Как звать тебя?
— Я — Лисаний, — прозвучало в ответ, на этот раз, несомненно, поблизости, определилось и направленье, откуда шел голос, примерно оттуда, где была дверь.
— Лисаний? — повторил он, будто не расслышав, будто ждал совсем другого имени. — Лисаний… — И, лежа без движения, бормоча себе под нос это имя, он при всей самоочевидности происходящего все же был теперь удивлен не только странным несогласьем имени, но и тем, что спросил об имени: разве не желал он когда-то оставить своего юного ночного спутника в той парящей безымянности, из которой тот явился к нему? Разве не отослал его назад в безымянность? И удивленно он спросил еще: — Я же отослал тебя… почему ты не ушел?
— А я и ушел, — послышалось в ответ, теперь уж совсем близко, мальчишеский голос был знакомо-приветлив и звучал чуть по-деревенски, в его смиренности лукаво сквозила крестьянская хитринка, исподтишка выжидая очередного вопроса.
Сам того не сознавая, он с этим согласился:
— Так, значит, ты ушел… и однако ты здесь.
— Ты не запрещал мне ждать под дверью… а теперь позвал.
Это была правда и все же не вполне правда, за нею угадывалась ложь, пусть маленькая и детская, но все же как бы отзвук большой лжи, которой была пропитана его жизнь, эхо той лукавой и более чем лукавой призрачной истины, которая держится за слово и которой не по плечу реальная реальность, призрачная истина, он издавна прибегал к ней, с малых лет, когда ребенком начал мечтать, как бы ему одурачить смерть; истина и ложь, зов и не зов, близь и даль сливались друг с другом, сливались, как бывало всегда; и теперь стало совершенно непонятно, как это мальчик мог ждать за дверью, когда одновременно, словно бы притязая на вековечность, на улице под окном творился кошмар, шатаясь, бродила та жуткая троица; ах, это было непонятно и оставалось непонятным, непостижимым как одновременность, которая уже миновала и все же продолжала длиться, как некая вторая реальность без времени, без прошлого, без будущего и как раз потому проникающая во вновь обретенное земное бытие, почти как призрачная реальность под чужим именем, лишенная того прибытка в потустороннем, который присущ всякой потере; и робость перед такой загадочностью судьбы, робость перед смехом, который, взрывая судьбу, раздался там, робость перед безымянным и перед нуждою спрашивать имя, которое всякий раз неминуемо оказывается случайным и неправильным, о, робость перед загадкой узнаванья, — когда он открыл глаза, она стала противленьем одновременности, стала бегством от бывшего и свершившегося, бегством в однозначное Днесь, бегством в осязаемо-непосредственное; напротив, в оконном откосе, еще лежали сместившиеся уже полосы лунного света, пространство было замкнуто в стенах теней, и, хотя все еще казалось, что не сто́ит нарушать неподвижность и поворачивать голову, было, однако, ясно, что там, на фоне затененных контуров двери — если, прищурясь, искоса посмотреть туда, — нежно и едва уловимо рисовалась фигура мальчика; все это была парящая, странно парящая, странно невесомая земная данность, изъятая из всякой одновременности, изъятая из прошлого, изъятая из будущего, вся здесь и теперь, безымянная скудельность без имени: до сих пор мальчик вел его — уж не хотел ли он сейчас увести его назад, явившись вновь без зова, без зова и под странно чужим именем? Земное руководство пришло к концу, в безбудущно-земном более не было нужды в поводыре, и если существовала еще указующая поддержка, то не дело мальчика было оказывать ее, ибо действенна лишь помощь, пришедшая по зову, а тому, кто не способен назвать помощь по имени, невозможно и оказать ее. И когда мальчишеская фигура стала отделяться от затененной двери, он вновь, как бы усугубляя отказ, произнес:
— Я не звал тебя на помощь… ты ошибся, я не звал… — и добавил, понизив голос: — Писаний.
Тот, к кому он обращался, не смутившись отрицательным ответом, выступил из темной глубины комнаты в тихий круг света от масляной лампадки; откликаясь на звуки имени, осененное грезой мальчишеское лицо открылось искренне-ясной доверчивой улыбкой: