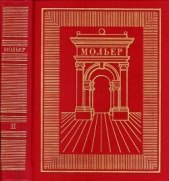Том 2 [Собрание сочинений в 3 томах]
![Том 2 [Собрание сочинений в 3 томах]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)
Том 2 [Собрание сочинений в 3 томах] читать книгу онлайн
Французский писатель Франсуа Мориак — одна из самых заметных фигур в литературе XX века. Лауреат Нобелевской премии, он создал свой особый, мориаковский, тип романа. Продолжая традицию, заложенную О. де Бальзаком, Э. Золя, Мориак исследует тончайшие нюансы человеческой психологии. В центре повествования большинства его произведений — отношения внутри семьи. Жизнь постоянно испытывает героев Мориака на прочность, и мало кто из них с честью выдерживает эти испытания.
Во второй том вошли романы «Тайна семьи Фронтенак», «Дорога в никуда» и «Фарисейка».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В тот вечер, когда было принято решение оставить Жана на два года в Балюзаке, аббат страстно возжелал, чтобы Бог явился ему во плоти, дабы можно было в знак благодарности лобызать ему руки, припасть к его ногам. Жан хранил враждебное молчание и открывал рот лишь затем, чтобы тоном приказания потребовать то, что ему нужно. Господин Калю не знал, что именно произошло в Балозе, но он видел рану, и этого ему было достаточно, а как был нанесен удар и каким оружием, он рано или поздно узнает, а может быть, и никогда не узнает. Но не в том дело, главное — не дать распространиться заразе. Как-то в сумерках он подсел к изголовью кровати, на которой дремал Жан, и спросил, не пугает ли его перспектива провести зиму в Балюзаке. Мальчик ответил: лучше все, что угодно, только не ихний Рош, однако очень жаль, что он не может выполнить свое намерение «расквасить ему морду».
Кюре выслушал эти слова как остроумную шутку.
— …Вот увидишь, какой я развожу в камине огонь, вечерами можно работать, читать, делать записи, потягивать ореховую воду, а западный ветер стонет в сосняке, швыряет в ставни пригоршни дождя…
С притворной развязностью Жан заметил, что, очевидно, «здесь не хватает любви…». Господин Калю спокойно ответил, что главное — иметь любовь в сердце своем.
— Как бы не так! (По-прежнему не своим, а каким-то чужим голосом.)
Аббат все так же спокойно спрятал в карман сутаны четки, вынул трубку и понюхал ее (курить в спальне Жана он себе запрещал).
— Ну я-то что, — пробормотал он. — Я человек старый, и у меня есть надежная гавань.
— Как же, как же, боженька, известное дело!
Кюре поднялся и положил ладонь на лоб Жана.
— Ты прав, Бог прежде всего и везде!
А главное, у него сейчас есть сын, злой мальчик, вернее, хочет казаться злым, но, так или иначе, это его дитя… Жан приподнялся на подушках и крикнул:
— Только, пожалуйста, не воображайте! Если хотите знать правду, мне ненавистно все, что вы собой представляете.
— У тебя опять температура поднимется, — сказал кюре.
Как он исстрадался, бедный мальчуган! «Он ополчился против меня только потому, что я под рукой и ему некого больше кусать…» Аббат погрузился в размышления, он поставил локти на колени и слегка отвернулся, так, чтобы лицо оставалось в тени, потому что он знал: Жан, зарывшись в подушки, пытается разглядеть, достиг ли нанесенный им удар цели, но, даже если бы свет лампы падал на кюре, больной все равно ничего не смог бы прочесть в этих лишенных всякого выражения чертах. И вдруг Жану стало стыдно своих слов.
— Я это не про вас сказал, — опустив голову, пробормотал он.
Аббат Калю пожал плечами.
— Я понимаю, тебе просто требовалась разрядка… но скоро ты уже сможешь принимать гостей.
— У меня нет знакомых.
— А Пианы?
— Раз они не пришли сюда, раз не написали…
— Они каждый день о тебе справляются.
— Да, но все-таки не пришли… — твердил свое Жан и отвернулся к стене.
И правда, один из наших фермеров, живший в Балюзаке и доставлявший нам по утрам молоко, одновременно сообщал нам новости о Жане. Однако кюре тоже дивился, почему мы сами не подаем признаков жизни. Он отлично понимал, что Мирбель огорчен нашим кажущимся равнодушием, однако не мог измерить всю глубину его обиды. Поэтому-то балюзакский священник, убежденный, что все это штучки «мамаши Бригитты», решил, как только больному станет полегче, съездить в Ларжюзон, хотя бы просто для очистки совести.
IX
Почта в Ларжюзон прибывала обычно во время первого завтрака, когда наша семья была вся в сборе. Мачеха посещала раннюю мессу или спускалась прямо из своей спальни и, как правило, выходила в столовую уже тщательно одетая и застегнутая. В то утро, когда я вслух прочел письмо от господина Калю, где он сообщал о внезапной болезни Мирбеля, она сидела с жестким, хмурым выражением лица, что предвещало дурной день; в одиннадцать часов она должна была давать урок катехизиса детям, идущим к первому причастию, которые, по ее словам, сплошь были кретины, ровно ничего не понимали из того, что им рассказывают, сидели с непроницаемо-тупыми физиономиями и развлекались только тем, что щипали друг дружку за наиболее мясистые части тела. Да к тому же еще грязнули, непременно наследят на паркете, и попахивает от них не слишком приятно. И не надейтесь, что они вам хоть вот столечко благодарны, как бы не так! Бейся не бейся, делай им добро, а их же родители при первом подходящем случае ограбят ваш дом да еще вас самих прихлопнут.
В дни, посвященные изучению катехизиса, мы все знали, что достаточно самой невинной искорки, чтобы последовал оглушительный взрыв, ибо Господь Бог наградил мадам Бригитту огневой натурой.
— Боже мой! — крикнула Мишель, когда я дочитал письмо. — Мы немедленно должны ехать в Балюзак. А я еще не одета.
Тут раздался голос нашей мачехи:
— Ты собираешься нынче утром ехать в Балюзак?
— Конечно, а как же, бедный Жан…
— Я запрещаю тебе туда ехать.
— А почему сегодня утром нельзя?
— Ни утром, ни вечером, — отрезала мадам Бригитта, побелев от злости.
Мы, ошеломленные, переглянулись. Хотя отношения мачехи и сестры были вообще-то натянутые, но до сих пор Бригитта избегала открытых столкновений.
— Что это с вами? — дерзко спросила Мишель. — С чего это я буду ждать до завтра?
— И завтра ты не поедешь. Никогда больше не поедешь в Балюзак! — крикнула мачеха. — И не строй удивленной физиономии, лицемерка.
Отец поднял от страницы «Нувелист» испуганное лицо.
— Но почему, Бригитта, вы так горячитесь?
— Боюсь, что я слишком поздно начала горячиться. — Фраза эта была произнесена торжественным тоном.
И так как Мишель осведомилась, в чем именно ее обвиняют, мачеха заявила:
— Ни в чем я тебя не обвиняю. Я верю в зло только тогда, когда вижу его своими собственными глазами.
Отец поднялся. На нем был старый коричневый халат. Из-под расстегнутого ворота рубашки торчали пучки серой шерсти, обильно покрывавшей его грудь.
— Так или иначе, вы говорите…
Мачеха устремила на мужа ангельски-кроткий взгляд:
— Мне больно причинять вам боль. Но вы должны все знать: мне говорили, что Мишель видели у мельницы Дюбюша вместе с Мирбелем.
Мишель твердо заявила, что это правда, что иногда она встречалась там с Жаном. Но что же тут плохого?
— Не разыгрывай наивность, это тебе не к лицу. Тебя видели.
— Ну и что же, что видели? И видеть было нечего. Отец нежно привлек Мишель к себе:
— И в самом деле, нет ничего плохого в том, что ты встречалась с маленьким Мирбелем у мельницы Дюбюша. Но хотя ты еще ребенок, ты выглядишь старше своих лет, а здешние люди — особенно женщины — настоящие ехидны.
Тут Бригитта прервала его:
— Конечно, ехидны… И вам совершенно незачем защищать от меня Мишель. Я только потому и вмешиваюсь, чтобы спасти ее от сплетен; возможно, все это одна клевета, и хочу надеяться, что я вмешалась не слишком поздно. Этот Мирбель — развращенный субъект. Господи, прости меня, что я принимала его в нашем доме! Интересно, до чего он дошел?… — добавила она вполголоса мрачно и задумчиво. — Вот в чем вопрос.
Какой же она вдруг стала кроткой! Отец схватил ее за запястье:
— Договаривайте до конца! Что там еще?
— Еще… Но прежде всего отпустите мою руку! — крикнула она. — Не забывайте, кто я такая! Вы хотите знать правду? Пожалуйста, вот вам правда!
Разгневанная мачеха обогнула стол, под прикрытием столового серебра и посуды схватилась обеими руками за спинку стула и в такой позе, опустив свои перепончатые веки, дабы полнее сосредоточиться в себе самой, изрекла наконец:
— Мишель девушка, и она любит мужчину. Вот что произошло.
Воцарилось молчание, мы не смели поднять от тарелок глаза. Мадам Бригитта, внезапно отрезвев, не без тревоги наблюдала за отцом и дочерью.
Октав Пиан выпрямился. И показался мне очень высоким, таким, каким я помнил его еще при маминой жизни. Он был оскорблен в своей нежной любви к Мишель, в том чувстве, которое отцы питают к дочерям, в чувстве, сотканном из уважения и целомудрия, столь уязвимого, что они никогда не прощают тому, кто хоть раз посягнет на эту святыню. Он разом вырвался из плена бездонной тоски, и та, что стояла сейчас перед ним до ужаса живая, вытеснила память о покойной жене.