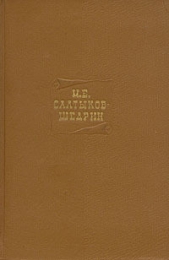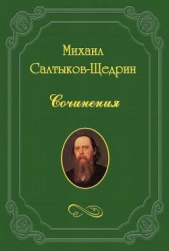Пошехонская старина

Пошехонская старина читать книгу онлайн
«Пошехонская старина» – последнее произведение великого русского писателя М.Е.Салтыкова-Щедрина – представляет собой грандиозное историческое полотно целой эпохи. По словам самого Салтыкова, его задачей было восстановление «характеристических черт» жизни помещичьей усадьбы эпохи крепостного права.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Господа! без прений! – провозгласил председатель собрания, – пусть каждый поступит, как ему Бог на сердце положит!
И прослезился.
– Без прений! без прений! – загудело собрание.
Предводитель прочитал другую бумагу – то был проект адреса. В нем говорилось о прекрасной заре будущего и о могущественной длани, указывающей на эту зарю. Первую приветствовали с восторгом, перед второю – преклонялись и благоговели. И вдруг кто-то в дальнем углу зала пропел:
– Кто там поет! стыдно-с! – рассердился старичок предводитель и продолжал: – Господа! кому угодно? Милости просим к столу! подписывать!
Все, как один, снялись с места и устремились вперед, перебегая друг у друга дорогу. Вокруг стола образовалась давка. В каких-нибудь полчаса вопрос был решен. На хорах не ждали такой быстрой развязки, и с некоторыми дамами сделалось дурно.
– Ай да голубчики! в одночасье продали! – раздался с хор чей-то голос.
Но излюбленные люди уже не обращали внимания ни на что. Они торопливо подписывались и скрывались в буфет, где через несколько минут уже гудела целая толпа и стоял дым коромыслом.
– А какую мне икру зернистую сегодня из Москвы привезли! – хвастался содержатель буфета, – балык! сёмга! словом сказать, отдай все, да и мало!
Действительно, икра оказалась такая, что хоть какое угодно горе за ней забыть было можно. Струнников один целый фунт съел.
Зала опустела. Только немногие старички бродили по опустелому пространству и уныло между собой переговаривались.
– Бежали? – укоризненно говорил один, указывая на буфет, – то-то вот и есть! Водка да закуска – только на это нас и хватает!
– Похоже на то!
– Позвольте! – убеждал другой, – если уж без того нельзя… ну, положим! Пристроили крестьян – надо же и господ пристроить! Неужто ж мы так останемся? Рабам – права, и нам – права!
– Это уж опосля!
– То-то вот, «опосля»! Опосля да опосля – смотришь, и так измором изноет!
– Нет, вы мне вот что скажите! – ораторствовал третий. – Слышал я, что вознаграждение дадут… положим! Дадут мне теперича целый ворох бумажек – недолго их напечатать! Что я с ними делать стану? Сесть на них да сидеть, что ли?
– В ломбард положите…
– А ломбард что с ними будет делать?
– Ну, ломбард найдет место.
– Ведь нам теперича в усадьбы свои носа показать нельзя, – беспокоился четвертый, – ну, как я туда явлюсь? ни пан, ни хлоп, ни в городе Иван, ни в селе Селифан. Покуда вверху трут да мнут, а нас «вольные»-то люди в лоск положат! Еще когда-то дело сделается, а они сразу ведь ошалеют!
– Ну, в случае чего и станового позвать можно!
– Дожидайтесь! приедет он к вам! да он их же науськивать будет – вот увидите…
И так далее.
Вечером того же дня в зале собрания состоялся бал. Со всех концов губернии съехались дамы и девицы, так что образовался очаровательный цветник. Съехались и офицеры расквартированной в губернии кавалерийской дивизии; стало быть, и в кавалерах недостатка не было. Туалеты были прелестные, совсем свежие, так что и в столице не стыдно в таких щегольнуть. Попечительные маменьки рассчитывали на сбыт дочерей, а потому последняя копейка ставилась ребром. На хорах играл бальный оркестр одного из полков; в зале было шумно, весело, точно утром ничего не произошло. Разумеется, и Струнниковы присутствовали на бале. Александра Гавриловна, все еще замечательно красивая, затмевала всех и заставляла биться сердца.
Но Федор Васильич, по обыкновению, не воздержался от нахальных привычек. Не будучи пьян, он прислонился к одной из колонн и громогласно твердил:
– Рубашку сняли! шкуру содрали!
Ну, раз сказал, другой сказал – можно бы и остепениться, а он куда тебе! заладил одно, да и кричит во всеуслышание, не переставаючи: – Содрали!
На его несчастие, тут же поблизости стоял «имеющий уши да слышит» (должность такая в старину была); стоял, стоял, да и привязался.
– Вы это об ком изволите говорить? – полюбопытствовал он.
Струнников вытаращил глаза, но не струсил. Побежал к губернскому предводителю и пожаловался. Губернский предводитель побежал к губернатору.
– Помилуйте, вашество! – роптал излюбленный человек всей губернии, – мы жертвуем достоянием… на призыв стремимся… Наконец это наша зала, наш бал…
– Успокойтесь! я все устрою! Федор Васильич! прошу вас! тут вкралось какое-нибудь недоразумение!
– Какое недоразумение! Я об заимодавце об одном говорил, что он шкуру с меня содрал, а «он» скандалы мне делает! – солгал Струнников.
Губернатор поманил пальцем «имеющего уши да слышит» и пошептался с ним. Затем последний с минуту как бы колебался и вдруг исчез без остатка.
– Так-то, брат, лучше, вперед умнее будешь! – процедил ему вдогонку Струнников.
Справедливость требует сказать, что Федор Васильич восторжествовал и в высшей инстанции. Неизвестно, не записали ли его за эту проделку в книгу живота, но, во всяком случае, через неделю «имеющий уши да слышит» был переведен в другую губернию, а к нам прислали другого такого же.
Однако мрачные предчувствия помещиков не сбылись. И крестьяне и дворовые точно сговорились вести себя благородно. Возвратившись домой, матушка даже удивилась, что «девки» еще усерднее стараются услуживать ей. Разумеется, она нашла этому явлению вполне основательное, по ее мнению, толкование.
– Остались у меня всё старые да хворые, – говорила она, – хоть сейчас им волю объяви – куда они пойдут! Повиснут у меня на шее – пои да корми их!
Тем не менее нельзя было отрицать, что черная кошка уж пробежала. Как ни притихли рабы, а все-таки возникали отдельные случаи, которые убеждали, что тишина эта выжидательная. Помещики приподнимали завесу будущего и, стараясь оградить себя от предстоящих столкновений, охотно прибегали к покровительству закона, разрешавшего ссылать строптивых в Сибирь. Но этому скоро был положен предел. Закона не отменили, а распорядились административно, чтобы каждый подобный случай сопровождался предварительным исследованием.
Летом 1858 года произошли по уездам выборы в крестьянский комитет. Струнникова выбрали единогласно, а вторым членом, в качестве «занозы», послали Перхунова. Федор Васильич, надо отдать ему справедливость, настоятельно отпрашивался.
– Увольте, господа! – взывал он, – устал, мочи моей нет! Шутка сказать, осьмое трехлетие в предводителях служу! Не гожусь я для нынешних кляузных дел. Все жил благородно, и вдруг теперь клуязничать начну!
– Просим! просим! – раздался в ответ общий голос, – у кого же нам и заступы искать, как не у вас! А ежели трудно вам будет, так Григорий Александрыч пособит.
– Рад стараться! – отозвался Перхунов, которому улыбалась перспектива всегда готового стола у патрона.
Кончилось, разумеется, тем, что Струнников прослезился. С летами он приобрел слезный дар и частенько-таки поплакивал. Иногда просто присядет к окошку и в одиночку всплакнет, иногда позовет камердинера Прокофья и поведет с ним разговор:
– Рад, Прокошка?
– Чему, сударь, радоваться!
– По глазам вижу, что рад. Дашь ты стречка от меня!
– Неужто, сударь, вы так обо мне полагаете? Кажется, я…
И так далее.
Поговорив немного, Федор Васильич отошлет Прокофья и всплакнет:
– Добрый он! добрые-то и все так… А вот Петрушка… этот как раз… Что тогда делать? Сбежит Петрушка, сбежит ключница Степанида, сбежит повар… Кто будет кушанье готовить? полы мыть, самовар подавать? Повар-то сбежит, да и поваренка сманит…
Посидит, потужит – и опять всплакнет.
Струнников еще не стар – ему сорок лет с небольшим, но он преждевременно обрюзг и отяжелел. От чрезмерной ли еды это с ним сталось или от того, что реформа пристигла, – сказать трудно, но, во всяком случае, он не только наружно, но и внутренне изменился. Никогда в жизни он ничем не тревожился и вдруг почувствовал, что все его существо переполнилось тревогой. Всего больше его мучило то, что долги стало труднее делать. Соседи говорят: такое ли теперь время, чтобы деньги в долги распускать! Богатеи из крестьян тоже развязнее сделались. Отказывают без разговоров, точно и не понимают, что ему до зарезу деньги нужны. А некоторые, которым он должен был по простым запискам, даже потребовали, чтобы расписки были заменены настоящими документами. Намеднись сунулся он к Ермолаичу, а тот ему: