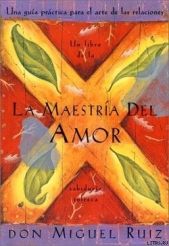AMOR
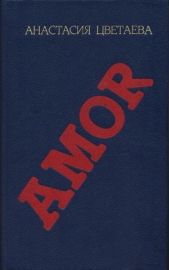
AMOR читать книгу онлайн
Роман "Amor" — о судьбах людей, проведших многие годы в лагерях и ссылке, о том, что и в бесчеловечных условиях люди сохраняли чувство собственного достоинства, доброту.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В уголке барака — постель маленькой некрасивой женщины лет — тридцати? Что их свело? Память Ники молчит, упираясь в года. Но Нике кажется, что она ей дочка? Так она заботлива к ней, ласкова, и она ждёт её с работы, как мать заправляет её постель, брошенную в беспорядке. Утром — что Ника делала ещё? Что может делать мать для дочери в лагерном бараке? Самое малое, ибо барак — лагерь. Это круто пущенная в ход машина, и в нее что‑то свое на ходу вставить — трудно. И все‑таки Ника вставляет. Типично домашнего типа, не столько нужные, как желательные, и вот эти "палки в колесе" красят Никину с нею жизнь. Как и кусочки хлеба, обрезки вольнонаёмных булочек, их богоданная дочка аккуратно приносит без всякой её просьбы, потому что "дочка" её работает в булочной и ей это сам Бог велел. Ника пишет ей письма домой и читает треугольнички с фронта от брата, быть может, потому, что там, на далёкой воле, все идёт и идёт война…
Ту не дочку её звали Марусей, и ей это грустно, такое русское имя! Никина "дочка" — земное дитя, но её в лагерном бараке ангельская доброта безымянна, она такая земная, что неотделима от хлеба земного, потому и послали её на работу в булочную, она же, в доброте сердечной, может быть, помня о своей матери где‑то в селе, в деревне, где идёт война, тесно сжилась с Никой, одарив её к плечу подошедшую старость — тем, что всего невозможнее в лагере, — сытостью… Поддержав тело дожить до конца срока, ещё и не аукающегося, увы.
Но когда Бог шлет помощь, Он шлет её щедро, через край — и ученики Ники по английскому языку, полит- и медработники переводят её с обычного лагерного питания — на "диетическое", тем облегчив ей лагерную жизнь на весь раздел физический из психофизических переживаний, все, чем дано человеку облегчить ношу собрату…
"Мориц, Мориц, где вы?" Иногда пробуждаясь в Нике — он отступал все дальше…
Отобрав по формулярам четырнадцать женщин, могущих работать на культурной работе, в их числе была и Ника, их старались посадить на поезд, но это не удалось. Вернули на штабную колонну. Ника только хотела лечь и начала раздеваться, как в барак вошла начальница колонны, и с нею члены штаба. "Помпокавээр" — обычно это делает помпотруду — громко назвал фамилию Ники. Уже став Винтиком в лагерной машине, Ника рефлекторно (может, и во сне было бы то же) отвечала имя и отчество…
— С вещами!
(Арест! Боже мой! В изолятор?!)
Дальше все было как во сне: вмиг члены штаба собрали Никины вещи — и, ни с кем не простясь из тех, с кем она жила уже давно, Ника оказалась за зоной. Но с ней шел только один солдат. Штаба колонны уже не было.
— Мать, — сказал солдат (у него было доброе, молодое лицо), — ты не переживай, это только с виду — арестовали тебя, — знаешь что… Тебя начальство умыкнуло, в другое, в наше отделение. Прочли в твоем формуляре, кем ты на воле была… Умыкнули и увели тебя, чтобы ты им языки преподавала. Так ты сама иди через поле, в ЦРМ [45]… Так тебя либо там устроят, либо в ДОКе [46]. Там тебя встретят…
— О, нет, дорогой! — ответила Ника. — Одной мне идти, без документов? Что я, глупая? Раз увел — доведи… И чтоб меня обвинили в побеге и дали бы мне — срок?!
— Ну ладно… — добродушно сказал солдат, и они пошли через поле. Солдат помогал Нике нести её вещи. Нику взяли в ДОК — и стала Ника преподавать начальству английский язык. На первом же уроке — телефонный звонок, и в ответ голос её гневного ученика:
— Ничего, попрыгаешь и остынешь! Пришлешь мне формуляр! Пришлешь… Человек не ходит за формуляром, сам знаешь законы, сам — прокурор!
Жизнь медленно тянулась — к освобождению…
"Там" — шла война. И все уменьшали пайки (хлеба) вольнонаёмным. Заключённые не раз слышали горькие восклицания вольных:
"Вы — сберкасса, вас — берегут". "Даже с собаками!" — добавляли с горьким смехом зеки…
"Вам — паек полагается, не урезали ещё…" — "Нам…"
Радостно вспоминала позднее Ника, что с тех пор, как её выкрали для себя и вернули ей специальность преподавателя языков и она уже не была голодна, ей иногда удавалось передать тихонечко через вольнонаёмных — куски хлеба их детям. Эта радость зажигала вокруг нее почти феерическое — освещение.
"Вот и лагерь тебе"… — пел<$ в её нутре неким родом чревовещания.
Как же это случилось? И потолок не рухнул!
Ника узнала в 1943 году вещь совершенно невероятную, нежизненную — в ту эпоху. Почти что небывалую: заключённого — освободили! И этот человек — Мориц! Из всех — Морица! После шести лет заключения и — его — заявлений, во все инстанции! Горечь без дна и края, — да. Но торжество факта — перекрывает его! Значит, Мориц недаром верил в то, что его — его страна — услышит! Не бросал надеяться — писал и писал. Если б он бросил писать — тогда было бы горе. Он не бросил. Он знал. Он — дождался.
Мориц — вольнонаёмный! Это — победа — подобная той, с капитуляцией целой страны. Будет ли в эту ночь спать — Ника?
На другой день пришло разъяснение: Начальник сметнопроектной группы Известковой, Мориц по освобождении назначен старшим помощником — следовало крупное имя, известное всем — начальника всех лагерей края. Ника плакала, лбом в подушку, подушку–сенник, ей ещё на четыре года дарованную. "Не сможет ещё два года (последние его восьми) вернуться к жене, домой, к Ольге, к детям… Но он сможет съездить к ним, домой в отпуск, — утешала себя Ника — разве это не огромное счастье? Огромное!"
О, Мориц показывал себя! Он работал не только на стройке, но и над досрочным освобождением лучших рабочих.
Разделенная расстоянием и событиями, Ника узнала, что вскоре Мориц перевезен в больницу с диагнозом: две каверны и туберкулез горла. Он уже с трудом говорил. Она узнала, что за Морицем самозабвенно, горестно ухаживала жена, вызванная его начальством, оставившая сына на попеченьи старшей сестры его и друзей. Она не отходила от умирающего ни на час, до самой его смерти. Долго не было вестей о Евгении Евгеньевиче, но когда пришел ответ от его сестры на запрос Ники (адрес которой он ей — "на всякий случай" — оставил), Ника залилась плачем: сестра его сообщала, кратко, что он умер — в лагере, — и ни слова о его изобретении!.. Но и далее не услыхали никогда о его блестящем транспортном изобретении. Но потому, что оно не было введено в жизнь, можно было думать, что или все же была ошибка в его расчетах… или что изобретение это вместе с моделью погибло. Погибла — в одной из лагерных перебросок при обыске — и поэма Ники, ею почти доконченная.
На всю жизнь будет памятна ночь, когда, лежа в женском бараке (многие на полу, сняв с нар жидкий матрасик), их разбудил хриплый от усталости, но громкий от волнения голос диктора, объявлявший небывалую весть — капитуляцию Германии! Женщины вскакивали, как в бреду, кидались друг к другу, обнимались, крича: "Домой, домой!"
Кто из них спал в ту ночь?
Сколько надежд, какая невероятная радость! В самих словах было колдовское звучание… через них открывалось будущее. Тает лагерь! Размыкаются оковы… Жизнь распахивалась, силы удесятерялись! Эту ночь не забыть вовек! Как хорошо, что она была… Эта была целая, новая маленькая жизнь…
Бедные женщины! Месяцы шли, превратились в годы, ни один срок не дрогнул, никто не был выпущен, лагерь проглотил эту весть, как акула, и равнодушно продолжал жить, как до нее…
…И вот Ника — за отказ сожительствовать с начальником штаба колонны — послана в прачечную. Из 75 штук белья по норме (плохо стирая, спутницы её вырабатывают и полторы и две нормы) , — считая грехом стирать плохо — вырабатывает в день не более 55 штук, в поте лица. Но целиком уйти в этот пот — не выходит. Остается остаток души, парящей над грязным бельём — и Ника пишет в воздух по-английски поэму "Близнецы" о Джозефе Конраде и Александре Грине. "Здорово получается"… — говорит она себе радостно и трет крепче грязь о стиральную доску. И по руке её из вышвырнутой кучи белья — прикипевшего? — ползет оголтелая вошь.