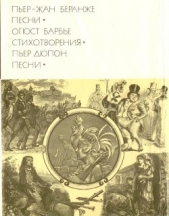Между людьми

Между людьми читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Федор Михайлович Решетников
Между людьми
Мне нравится ходить в кабачки, каких в Петербурге очень много, и нравится ходить преимущественно в многолюдные, находящиеся на многолюдных улицах, где живет рабочий народ; также нравится ходить и в дешевенькие трактиры, гостиницы, когда по вечерам, в будни, под праздник и в праздники, стекается отвести душу простой народ. Подите вы в воскресенье Апраксиным переулком между Садовой и Фонтанкой - и вы увидите много рабочего народа, который то стоит кучками, то сидит в разных местах, то заходит в питейные и трактирные заведения. Из этих заведений слышатся крики, песни и пляски, и вам придет в голову: экой этот народ пьяница! Но не так заключаю я.
Не помню, которого числа февраля или марта месяца 186* г. я зашел в один дешевенький трактир. Выпив рюмку водки, я сел к столу и закурил папироску. Народу было не так чтобы много, но для этого трактира достаточно. Песни и пляски рабочих и мелких торгашей слышались даже на улице, поэтому легко себе представить читателю, что значат песни и пляски в самом трактире, - а это знает, я думаю, каждый житель Петербурга. Но кроме этого, в трактире много было спорщиков, которые, сидя за столами, выпивали очищенную, крымскую или наливку, закусывая огурцами, редькой или просто куском хлеба. Было много и таких, которые сидели поодиночке: недалеко от меня сидел человек в чуйке, покачивался и что-то бормотал; возле него сидел человек в армяке и несвязно выговаривал: "В орган заиграй!.. заиграй… пяти цалковых не пожалею!.. все отдам…" Сцен много; различные эти сцены часто доходят до драк, и жалко становится за человека, да ничего тут не поделаешь, и всякое насилие для того, чтобы остановить пьянство, будет напрасно. Почему это так, мы увидим дальше.
За одним столом со мной сидел человек лет двадцати шести. Таких людей мы видим постоянно и не обращаем на них никакого внимания. Первое, что бросается в глаза, - это растрепанные волосы, бледное лицо, разбитая бровь. Надето на нем суконное пальто, грязное, продранное в разных местах, изобличающее его в том, что он или драться любит, или его бьют. Пальтом он не закрывается; поэтому полы пальто лежат на полу, и видится грязная холщовая рубаха и серые тиковые коротенькие брюки; на ногах что-то вроде калош. Но он еще не пьян. Положивши руки на стол, левую на правую, и сжавши не мытые с неделю кулаки, он зорко наблюдает за людьми своими серыми глазами и, кажется, хочет вмешаться в разговоры, да сдерживается. Я заметил, как он посмотрел на меня, когда я вошел в трактир, как выпил рюмку водки и строго взглянул, когда я сел… Ему, как видно, хотелось заговорить со мной, но я уклонялся от этого, а он не начинал. Вдруг он сказал мне:
- Одолжите мне, если есть, папироску! Я дал. По произношению я затруднился заключить: рабочий ли он, или из чиновного разряда.
- Не поверите ли, как хорошо здесь.
- Почему?
- Народ хороший. Славный народ… Выпьемте.
Мы выпили по рюмке.
А в соседней комнате какой-то господин настроивал на гитаре "Во саду ли в огороде девица гуляла" и другие песни, и под эту игру публика плясала и пела. Вдруг к моему соседу подошел здоровенный мужчина в красной рубахе и в синих выбойчатых штанах. Он был полупьян. Ударив по плечу соседа, он сказал:
- Петька! спой "возле речки".
- Неохота.
- А, чтоб те!.. выпить, што ли, хошь?
- Нет… - В голосе его слышалось отчаяние. Мужчина принес к нему косушку перцовки. Выпили, и мой сосед ушел в соседнюю комнату, где плясали. Слышу, кто-то поет басом "возле речки", - правильно, хорошо, с чувством, то повышая, то понижая голос, как будто бы он был в певчих. Пели сначала и рабочие, но потом перестали, а пел только мой сосед, под аккомпанемент гитары.
Молодец, Петька!.. - закричали рабочие по окончании песня и просили его спеть другую. Я ушел.
Еще раза два приходилось мне видеть его в течение двух недель в трактире, и даже раз я видел его с гитарой, на которой он играл порядочно. Потом я его не видал долго. Однажды прихожу я в Обуховскую больницу, где лежал один мой товарищ. Рядом с его кроватью лежал человек, покрытый простыней, и около этой кровати суетились служителя и фельдшер.
- Вот и со мной то же будет! - сказал мне товарищ.- Еще час тому назад говорил, а теперь лежит мертвый.
- Кто такой?
- Канцелярский служитель Кузьмин… Его привезли сюда из квартала едва живого: пьянствовал все.
Открыли простыню - и что же? Я увидел того самого Петьку, который месяца два тому назад сидел за одним столом со мной, пил со мной водку и потом пел… Жалко мне стало его. Я рассказал об нем товарищу.
- Он мне подарил тетрадку. В ней написано, как он жил здесь, в Петербурге. Мне ее не надо, возьми. Вот что рассказывал про себя Кузьмин.
Часть первая
Зовут меня Петром Ивановичем Кузьминым. Воспитывали меня родной брат моего отца и его жена, которых я называл, как они меня учили, сначала тятенькой и мамонькой, а как вырос больше - папенькой и маменькой. Теперь же, в письмах к ним, я их называю уже папашей и мамашей.
Мать моя, как говорят мои воспитатели, умерла через сорок недель после моих крестин, бывших на третий день по моем рождении. Поэтому я не помню ее; портрета же ее я никогда не видел. О моих отношениях к матери вот что рассказывала тетка, когда ей хотелось похвастаться своей добротой.
- Мать твоя, как теперь помню, лежала в больнице, в голубеньком ситцевом платьишке, и как только я принесу тебя к ней, ты и замашешь ручонками, и заревешь. Возьмет тебя мать на руки, ты глядишь так как-то весело глазенками, и слюни у тебя бегут по губам. Ничего ты не понимал, безрогая скотина, а тоже что-то было у тебя такое, что ты не ревел, когда тебя брала мать на руки. А возьмет тебя другой, ты заревешь, даже если и я возьму тебя от матери, ты долго ревешь и грудь сосать не хочешь…
Могу вам положительно сказать, что я, кажется, начал понимать с третьего или четвертого года, потому что я кой-что помню за это время, а раньше я был положительно глуп и такая же бестолочь, как кукла, только живая кукла.
Когда уж я сделался рослым мальчишкой и навидался разных ребят годовалых, я удивлялся: неужели и я был такой же соплявый, ревун и бестолочь? Я сравнивал этих годовалых людей с годовалыми кошками и собаками, и мне почему-то досадно было, что кошки и собаки в это время лучше понимают, чем годовалый человек; по крайней мере, с ними возни нет. И неужели, думал я, так же мучились и со мной, как мучатся и с этими ребятами, так же колотили за рев, как и их? Тетка это подтверждала.
И то, что я видел и что я делал на четвертом году, я помню очень плохо. Я помню только то, что особенно произвело на меня впечатление; например, я помню, как один раз, ночью, меня разбудили стукотней и криком мои воспитатели. Они бегали и кричали: пожар! пожар! И действительно, горел соседний дом. Я в испуге дрожал и ревел. Думал ли я что-нибудь в это время - не знаю, а помню хорошо, что я кричал на весь дом и держался руками за платье тетки так крепко, что когда она меня стала бить и отрывать от себя, я порвал у нее платье и снова вцепился за него зубами так плотно, что укусил даже самую тетку в какое-то место… Помню, как я в первый раз смотрел, как идет лед на реке, как появился первый пароход,- и удивлялся всему этому.
Помню, что я был большой баловник и ел очень много. Только пробужусь - и кричу: ись! ись! Поставят самовар - я уже и лезу в шкаф, достаю чашку и иду к тетке: мама, ись! Это очень забавляло дядю и тетку, но они старались всячески отучить меня от обжорства, так как я просил есть раз по десяти в день. Жилось мне как-то нескучно: я или играл с детьми наших постояльцев, или с кошкой, или с собакой; или терся при тетке, стараясь перенять ее стряпню; или заглядывал, забившись на стул, как дядя пишет что-то на бумаге… Вижу я, что сначала на бумаге много места пустого, а как дядя поведет пальцами с пером и сделается ровная черточка, и много-много будет эдаких черточек! Сначала я только удивлялся этому, а потом мне почему-то смешно становилось, как дядя пишет-пишет - и изругается, а потом скоблить начнет.