Маловероятные были
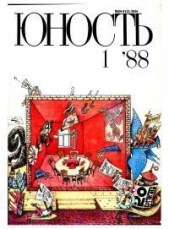
Маловероятные были читать книгу онлайн
Документально-художественная проза.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Анастасия Цветаева
Маловероятные были
Рисунок Р. Клочкова
Фото Л. Шимановича
Родные сени
В каждой жизни бывает необъяснимое. Моя жизнь не очень богата подобным — может быть, потому, что от рожденья я, как моряк под парусом, под этим ветром плыву: легкие полны им.
Чувство, что все волшебно (детство), иррационально (юность), таинственно (зрелость и старость), — срослось со мной.
И все же есть несколько случаев, выпадающих из сетей моего улова — в любые руки, на потребу любому, под парусом этим не плывущему. Так путешественник привозит друзьям курительную трубку из морской пены, кусок лавы с вдавленной в нее — когда та была горячей и мягкой — монетой, нитку кораллов, еще пахнущую морским дном.
Звали его Леонид, знала я его уже тринадцать лет, с его двадцати, моих двадцати девяти. Все мы его любили чувством сдержанного восхищения, желанием походить на него, радостью каждой встречи. Но случилась у меня вина перед ним — сорвавшееся несправедливое слово. Это меня томило. Я написала ему с просьбой прийти, когда будет в Москве, — работал он вблизи Вологды. Письмо мое было послано на адрес московский, матери его, у которой он в приезды останавливался, и от нее пришел ответ, что Леонид был, но всего полдня, просил извинить, что не смог быть у меня, скоро приедет на дольше и непременно зайдет, шлет привет.
И теперь каждый день я поджидала его.
В моей комнате, в четвертом этаже, над тихим Мерзляковским переулком, — уютной, с гигантской тахтой, старым бюро-кораблем вместо письменного стола, звездным глобусом, цитрой и музыкальной шкатулкой на бабушкином комоде, с фортепьяно и вольтеровским креслом, с обломанной мраморной головой работы Торвальдсена, с портретами по стенам, — вечером, придя с уроков, я слушала — не раздастся ли (мне) четыре звонка и голос его в темном маленьком коридорчике. Звонки раздавались часто, но все не его шаги. Когда же стукнет в дверь его крепкая небольшая рука и я двинусь ему навстречу — просить прощенья?.. Он переступит порог, в коротком знакомом пальто, снимет фуражку, невысокий, светло-русый, узколицый, застенчивый, — и как умел он стать гневным…

Волевой подбородок, юношески не заросший, и этот сияющий, словно всегда на празднике, сосредоточенный и лучащийся синий взгляд.
Были в нем, сказал бы древний, веривший в значенье планет, — мужественность Марса и повелительность Юпитера, но их овевала мечтательность Луны. И на диване ли сев или ходя по комнате одновременно твердой и уютной походкой, он наполнял эту комнату сдержанным весельем, напряженным покоем. И было чувство, что все хорошо, раз он тут. Как мне хотелось скорее сбросить с себя вину!
В тот последний раз, когда он был у меня, он рассказал, что встретил Нину, которую не встречал уже годы, был у нее — она переехала в Замоскворечье — в старом доме — он любит такие, — на антресолях. Она была замужем, разошлась, у нее сын лет двух — замечательный мальчик, Николай. Он ходил и говорил о ней и что-то недоговаривал, а я снимала с примуса кофе, наливала и слушала. Он выпил стакан, отломил печенье. Нет, он больше не хочет, хватит, — и точно эти слова перевернули какой-то рычаг.
— Да, — сказал он, останавливаясь у фортепьяно, — я теперь твердо знаю, — он повернулся и пошел меж тесно стоявших вещей, — всякое чувство можно остановить волей. Если физической близости не должно быть и ты это понял — можно остановить чувство, как бы сильно оно ни было. Но тут уж надо быть неумолимым к себе!
Его лицо (он, не заметив, вдруг стал на месте) было чуть поднято, он глядел немного вбок и вверх, отталкивая от комнаты взгляд, как лодку от берега; абрис верхней губы над полной нижней был овеян некоею важностью. Над решимостью — еще чем-то: прислушиванием. И был сдерживаемый восторг знания в этом отвернувшемся взгляде. Затем он вынул часы — старые, отцовские, на цепочке, — взял фуражку, пальто, тепло пожал руку.
И я могла обидеть этого человека! Когда же я увижу его?
Он не пришел ни в этот вечер, ни в следующий. А еще через день меня вызвали к телефону и сообщили, что приехали из Вологды родные — шесть дней назад около часу ночи под поездом погиб Леонид Федорович. Похоронен в Вологде, куда выезжали мать и сестра. Просят сообщить друзьям о девятом дне: панихида будет в такой-то церкви, в таком-то часу.
В неожиданном горе и в непонятности происшедшего (его нет — его никогда с нами не будет — и как мы — никто! — не чувствовали, что мы должны его потерять?), глядя на растерянные лица друг друга, повторяя слова, переданные по телефону, о неизвестности, как произошла смерть, — мы вспомнили ту, которую он любил. Нину. Ей надо было дать знать. И вот тут оказалось, что мы не знаем ни ее отчества, ни фамилии, и я ее видела раз, восемь лет перед тем, когда он зашел с ней в Музей изящных искусств, где я работала, и мы прошли втроем по верхним залам среди мраморных стен, статуй античного мира, под стеклянными потолками. На этом сказочном фоне мне запомнились большие глаза, карие, яркие, улыбка полного рта, рукопожатье нежной руки и моя нежность к той, которую полюбил Леонид. Но годы, один за другим, — это очень много людей, глаз, улыбок, рукопожатий, имен, отчеств, фамилий — и я совершенно не помнила, как звалась меж людей та юная женщина. Мне она была Нина — и все.
Был апрельский вечер, холодный. В темноте, против ветра, по слабо освещенному проезду Сретенского бульвара мы шли к телефону на Главный почтамт: кто-то надеялся узнать о Нине — точнее. Но попытка оказалась тщетной. Тогда я вспомнила, что мельком видела ее еще раз, в годы, когда Леонид уж давно с ней не встречался: у моего друга, скульптора Жукова, на вечеринке, и она в тот вечер мне не понравилась — подведены были не то глаза, не то брови, и рука на гитаре, и песенка (это было «не то» — Леонид?). Теперь я знала, что — то. По тону последнего его рассказа о ней. И я бросилась звонить — скульптору. Но и тот, и его жена — отвечали, что не помнят: столько лет назад, было столько народу… Кажется, была Нина, чья-то знакомая, ее привела какая-то женщина…
— Дело пропало, — сказала я тускло, без сил, вешая трубку.
И снова холод, ветер и улица. Как во сне, после полного работой и горем дня я входила в одну из квартир большого дома Сретенского бульвара — к женщине-другу, близкой, как мы все, Леониду, — для нее его смерть такой же удар, как для меня.
С этим чувством иррационального облегчения, утешения в неутешном я вошла к ней. И до поздней ночи мы все старались найти способ узнать о Нине — была ли то подсознательная попытка погоней за ней затмить хоть на час боль о его уходе, занять себя какой-то трудной задачей, имевшей отношение к нему? Стараньем что-то сделать для него, будто бы он еще жив… Затуманить неоспоримость его — навсегда — отсутствия? Кажется, это так. Как и — всё возвращались к нему — разговор о том, чем была его смерть — неудачным прыжком? Как все железнодорожники, так и он, прораб, часто вскакивал и сходил на ходу. Или — прорабы возят деньги для расплаты с рабочими, и — совершено преступление? Он мог сопротивляться, быть сброшен? Увы, как все это, само по себе большое, и последний его час, и последний наш долг ему — известить о его панихиде ту, которую он любил, — как все это было мало перед тишиной его внезапного исчезновения, перед навек необъяснимым фактом его отсутствия, перед наставшей между нами пустотой!
Ночь. С той ночи прошло двадцать лет ночей. Но как будто вчера я вижу кушетку, на которой меня уложила старшая моя подруга — Нэй. Но разве не чудо это — чем ее залечишь, утрату? — непонятность, что бывший с нами вдруг стал не наш, он, входивший, хотевший войти «на следующей неделе», которой не оказалось ему… смеявшийся, жавший руку, надевавший фуражку, стал вдруг — прозрачней небес… воспоминаньем! Помогли тонкие пальцы подруги, тепло сжавшие мне руку. Голос — тоже неповторимый, шепнувший:

























